Старого режима (фр.). (Примеч. пер.). 3 страница
Революционное вернакуляризующее* давление капитализма получило дополнительный толчок со стороны трех внешних факторов, два из которых внесли непосредственный вклад в рост национального сознания. Первым и, в конечном счете, наименее важным фактором было изменение в характере самой латыни. Благодаря стараниям гуманистов, пытавшихся возродить обширную литературу дохристианской древности и распространить ее через рынок печатной продукции, в кругах трансевропейской интеллигенции явно сложилась новая оценка утонченных стилистических достижений древних. Латынь, на которой они стремились писать, становилась все более цицероновской и, что то же самое, все более далекой
* Основанное на родном языке. (Прим. ред.).
от церковной и повседневной жизни. Тем самым она приобретала эзотерическое качество, совершенно отличное от того, которое имела церковная латынь во времена Средневековья. Ведь прежняя латынь была сокровенна не из-за ее содержания или стиля, а просто потому, что была письменной, т. е. в силу ее текстового статуса. Теперь она стала загадочной в силу того, что на ней писали, в силу языка-самого-по-себе.
Вторым фактором было влияние Реформации, которая одновременно во многом была обязана своим успехом печатному капитализму. До наступления эпохи книгопечатания Рим легко выигрывал в Западной Европе каждую войну против ереси, поскольку внутренние линии коммуникации у него всегда были лучше, чем у его противников. Однако когда в 1517 г. Мартин Лютер вывесил на церковных воротах в Виттенберге свои тезисы, они были напечатаны в немецком переводе и «в течение 15 дней [были] увидены во всех уголках страны»8. За два десятилетия, с 1520 до 1540 гг., книг на немецком языке было опубликовано втрое больше, чем в период с 1500 по 1520 гг. И в этой удивительной трансформации Лютер, безусловно, был центральной фигурой. Его сочинения составили не менее трети всех книг на немецком языке, проданных с 1518 по 1525 гг. За период с 1522 по 1546 гг. было выпущено в свет 430 полных или частичных изданий его переводов Библии. «Здесь мы впервые сталкиваемся с поистине массовой читательской аудиторией и популярной литературой, доступной каждому»9. В результате, Лютер стал первым автором бестселлеров, известным в качестве такового. Или, если выразиться иначе, первым автором, который мог «продавать» свои новые книги, опираясь на свое имя10.
В направлении, указанном Лютером, быстро последовали другие; они развернули колоссальную религиозную пропагандистскую войну, которая охватила в следующем веке всю Европу. В этой титанической «битве за души людей» протестантизм всегда вел себя наступательно, поскольку знал, какую пользу можно извлечь из растущего рынка печатной продукции на родном языке, создаваемого капитализмом; Контрреформация же в это время обороняла цитадель латыни. Внешним символом
этого служит выпущенный Ватиканом Index Librorum Prohibitorum*, не имеющий аналогов в протестантизме каталог запрещенных произведений, необходимость в котором была вызвана самим размахом книгопечатной подрывной деятельности. Ничто не дает такого ясного ощущения этого осадного менталитета, как панический запрет, наложенный в 1535 г. Франциском I на печатание каких бы то ни было книг в его королевстве — под угрозой смертной казни через повешение! Причина самого этого запрета и того, что его невозможно было провести в жизнь, заключалась в том, что к этому времени восточные границы его государства были окружены кольцом протестантских государств и городов, производивших массовый поток контрабандной печатной продукции. Взять хотя бы одну кальвиновскую Женеву: если за период с 1533 по 1540 гг. здесь было выпущено всего 42 издания, то в период с 1550 по 1564 гг. их число подскочило до 527, а на исходе этого периода не менее 40 самостоятельных типографий работали сверхурочно11.
Эксплуатируя дешевые популярные издания, коалиция протестантизма и печатного капитализма быстро создавала огромные новые читательские публики — не в последнюю очередь среди купцов и женщин, которые, как правило, либо плохо знали, либо вовсе не знали латынь, — и одновременно мобилизовывала их на политико-религиозные цели. Это неизбежно потрясло до самого основания не только Церковь. То же землетрясение породило в Европе первые влиятельные нединастические, негородские государства — в Голландской республике и в пуританском Содружестве. (Паника Франциска I была в такой же степени политической, в какой и религиозной.)
Третьим фактором было медленное, географически неравномерное распространение специфических родных языков как инструментов административной централизации, используемых некоторыми занимавшими прочное положение монархами, претендовавшими на абсолютность своей власти. Здесь полезно вспомнить, что универсальность латыни в средневековой Западной Европе никогда не соотносилась с универсальной политической системой.
* «Индекс запрещенных книг» (лат.). (Прим. пер.).
Поучителен контраст с императорским Китаем, где границы мандаринской бюрократии и сферы распространения рисованных иероглифов в значительной степени совпадали. Таким образом, политическая фрагментация Западной Европы после крушения Западной Римской империи означала, что ни один суверен не мог монополизировать латынь и сделать ее своим-и-только-своим государственным языком; а стало быть, религиозный авторитет латыни никогда не имел подлинного политического аналога.
Рождение административных родных языков опередило по времени как печать, так и религиозный переворот XVI столетия, и, следовательно, его необходимо рассматривать (по крайней мере предварительно) как самостоятельный фактор эрозии сакрального воображаемого сообщества. В то же время ничто не указывает на то, что это ородноязычивание — там, где оно происходило, — опиралось на какие-либо идеологические, хотя бы всего лишь протонациональные, импульсы. В этой связи особенно показателен случай «Англии», находившейся на северо-западной окраине латинской Европы. До норманнского завоевания литературным и административным языком королевского двора был англосаксонский. В последующие полтора столетия фактически все королевские документы составлялись на латыни. В период с 1200 до 1350 гг. эта государственная латынь уступила место норманнскому французскому. Тем временем из медленного сплавления этого языка иноземного правящего класса с англосаксонским языком подвластного населения родился староанглийский язык. Это сплавление позволило новому языку после 1362 г. занять, в свою очередь, место юридического языка, а также сделало возможным открытие парламента. В 1382 г. последовала рукописная Библия Уиклифа на родном языке12. Важно иметь в виду, что это была последовательность «государственных», а не «национальных» языков, и что государство, о котором идет речь, охватывало в разное время не только нынешние Англию и Уэльс, но и части Ирландии, Шотландии и Франции. Разумеется, широкие массы подданных этого государства либо знали плохо, либо вообще не знали ни латинский язык, ни норманнский французский, ни
староанглийский13. Прошло почти столетие после политического воцарения староанглийского языка, прежде чем власти Лондона наконец-то избавились от «Франции».
На берегах Сены шло аналогичное движение, хотя не так быстро. Как иронично пишет Блок, «французский язык, который, слывя просто-напросто испорченной латынью, лишь через несколько веков был возведен в ранг литературного языка»14, стал официальным языком судов лишь в 1539 г., когда Франциск I издал эдикт Виллер-Котре15. В других династических государствах латынь сохранилась гораздо дольше: при Габсбургах ею пользовались еще в XIX в. В третьих возобладали «иностранные» языки: в XVIII в. языками Дома Романовых были французский и немецкий16.
В любом случае «выбор» языка производит впечатление постепенного, неосознаваемого, прагматичного, если не сказать случайного процесса. И будучи таковым, он разительно отличался от сознательной языковой политики, проводимой монархами XIX в. перед лицом нарастания агрессивных народных языковых национализмов. (См. ниже главу 6.) Одним из явных признаков этого отличия служит то, что старые административные языки были именно административными: языки, используемые чиновничеством и для чиновничества ради его собственного внутреннего удобства. Не было и мысли о систематическом насаждении этого языка разным населениям, находившимся под властью монархов17. Тем не менее возведение этих родных языков в статус языков-власти, где они в некотором смысле конкурировали с латынью (французский в Париже, [старо]английский в Лондоне), внесло свой вклад в упадок воображаемого сообщества христианского мира.
В сущности, представляется вероятным, что эзотеризация латыни, Реформация и спонтанное развитие административных родных языков значимы в данном контексте прежде всего в негативном смысле — с точки зрения их вклада в ниспровержение латыни. Вполне возможно представить рождение новых воображаемых национальных сообществ при отсутствии любого, а возможно и всех этих факторов. Что в позитивном смысле сделало эти новые сообщества вообразимыми, так это наполови-
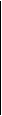 ну случайное, но вместе с тем взрывное взаимодействие между системой производства и производственных отношений (капитализмом), технологией коммуникаций (печатью) и фатальностью человеческой языковой разнородности18.
ну случайное, но вместе с тем взрывное взаимодействие между системой производства и производственных отношений (капитализмом), технологией коммуникаций (печатью) и фатальностью человеческой языковой разнородности18.
Здесь существенен элемент фатальности. На какие бы сверхчеловеческие подвиги ни был способен капитализм, в смерти и языках он находил двух неподатливых противников19. Какие-то конкретные языки могут умирать или стираться с лица земли, но не было и нет возможности всеобщей языковой унификации человечества. И все же эта взаимная языковая непостижимость имела исторически лишь очень небольшую значимость, пока капитализм и печать не создали моноязычные массовые читающие публики.
Хотя важно не упускать из виду идею фатальности (в смысле общего состояния непоправимой языковой разнородности), было бы ошибкой приравнивать эту фатальность к тому общему элементу националистических идеологий, который подчеркивает прирожденную фатальность конкретных языков и их связь с конкретными территориальными единицами. Главное здесь — взаимодействие между фатальностью, технологией и капитализмом. В докнигопечатной Европе и, разумеется, повсюду в мире различие устных языков — тех языков, которые для людей, на них говорящих, составляли (и составляют) саму основу их жизни, — было колоссальным: по сути дела, настолько колоссальным, что если бы печатный капитализм попытался подчинить эксплуатации каждый потенциальный рынок устного языка, он так и остался бы капитализмом крошечных пропорций. Но эти изменчивые идиолекты можно было собрать в определенных границах в печатные языки, которых было намного меньше. Этому процессу собирания способствовала сама произвольность любой системы знаков, обозначающих звуки20. (В то же время, чем более идеографичны знаки, тем шире потенциальная зона собирания. Можно различить здесь некоторого рода иерархию, в вершине которой располагается алгебра, в середине — китайский и английский языки, а в основании — регулярные слоговые азбуки французского или индонезийского язы-
ков.) И ничто так не служило «собиранию» родственных устных языков, как капитализм, сотворивший в пределах, установленных грамматиками и синтаксисами, механически воспроизводимые печатные языки, способные к распространению вширь с помощью рынка21.
Эти печатные языки закладывали основы национального сознания тремя разными способами. Во-первых и в первую очередь, они создавали унифицированные поля обмена и коммуникации, располагавшиеся ниже латыни, но выше местных разговорных языков. Люди, говорившие на колоссальном множестве французских, английских или испанских языков, которым могло оказываться трудно или даже невозможно понять друг друга в разговоре, обрели способность понимать друг друга через печать и газету. В этом процессе они постепенно стали сознавать присутствие сотен тысяч или даже миллионов людей в их особом языковом поле, но одновременно и то, что только эти сотни тысяч или миллионы к нему принадлежали. И именно эти сочитатели, с которыми они были связаны печатью, образовали в своей секулярной, партикулярной, зримой незримости зародыш национально воображаемого сообщества.
Во-вторых, печатный капитализм придал языку новую устойчивость, которая в долгосрочной перспективе помогла выстроить образ древности, занимающий столь важное место в субъективном представлении о нации. Как напоминают нам Февр и Мартен, печатная книга сохраняла постоянную форму, способную к фактически бесконечному воспроизведению во времени и пространстве. Теперь она уже не была подчинена индивидуализирующим и «неосознанно модернизирующим» привычкам монастырских переписчиков. Так, если французский язык XII в. заметно отличался от того, на котором писал в XV в. Вийон, то в XVI в. темп его изменения решительно замедлился. «К XVII столетию языки в Европе, как правило, уже приняли свои современные формы»22. Иначе говоря, вот уже на протяжении трех столетий эти стабилизированные печатные языки приобретают цветовое насыщение, но не более того; слова наших предков, живших в XVII в., доступны нам так, как не были доступны Вийону слова его предков из XII в.
В-третьих, печатный капитализм создал такие языки-власти, которые были отличны по типу от прежних административных местных наречий. К каждому из печатных языков некоторые диалекты неизбежно были «ближе»; они и определили их конечные формы. Их обделенные удачей собратья, все еще поддающиеся ассимиляции складывающимся печатным языком, утратили привилегированное положение, и в первую очередь потому, что оказались безуспешными (или лишь относительного успешными) их попытки настоять на собственной печатной форме. «Северо-западный немецкий» превратился в Platt Deutsch*, преимущественно разговорный, а следовательно, просторечный немецкий язык, потому что поддавался ассимиляции печатно-немецким языком так, как не поддавался ей богемский разговорный чешский. Верхненемецкий, королевский английский, а позднее центральный тайский языки были соответственно подняты на уровень новой политико-культурной значимости. (Отсюда борьба, поднятая во второй половине XX в. в Европе некоторыми «суб»-национальностями за преодоление своего подчиненного статуса посредством настойчивого вторжения в печать — и на радио.)
Остается лишь подчеркнуть, что в своих истоках застывание печатных языков и дифференциация их статусов были по большей части процессами неосознанными, вызванными взрывным взаимодействием капитализма, технологии и человеческой языковой разнородности. Однако — и так в истории национализма было почти со всем, — стоило лишь им «появиться», как они могли стать формальными моделями для подражания и там, где это было выгодно, могли сознательно эксплуатироваться в духе Макиавелли. Сегодня тайское правительство активно препятствует попыткам зарубежных миссионеров обеспечить его горно-племенные меньшинства собственными транскрипционными системами и развить издание литературы на их языках: и этому же самому правительству нет по большому счету никакого дела до того, что эти меньшинства говорят. Судьба тюркоязычных на-
* Обиходно немецкий. (Прим. редактора).
родов в зонах, которые входят ныне в состав Турции, Ирана, Ирака и СССР, особенно показательна. Семья разговорных языков, некогда повсеместно поддававшихся собиранию, а тем самым и пониманию в рамках арабской орфографии, утратила это единство в результате сознательных манипуляций. С целью возвысить турецкий язык — национальное сознание Турции — в ущерб любой более широкой исламской идентификации Ататюрк провел принудительную романизацию23. Советские власти последовали его примеру: сначала была осуществлена антиисламская, антиперсидская принудительная романизация, а затем, в сталинские тридцатые, русифицирующая принудительная кириллизация24.
Мы можем подытожить выводы из приведенных выше рассуждений, сказав, что соединение капитализма и техники книгопечатания в точке фатальной разнородности человеческого языка сделало возможной новую форму воображаемого сообщества, базисная морфология которого подготовила почву для современной нации. Потенциальная протяженность этих сообществ была неизбежно ограниченной и в то же время имела не более чем случайную связь с существующими политическими границами (которые, в общем и целом, были предельными достижениями династических экспансионизмов).
Вместе с тем, очевидно, что хотя почти у всех современных «наций», считающих себя таковыми, — а также у наций-государств — есть сегодня свои «национальные печатные языки», для многих из них эти языки являются общими, а в других лишь малая часть населения «использует» национальный язык в разговоре или на бумаге. Яркими примерами первого результата служат национальные государства испанской Америки или «англосаксонской семьи»; примерами второго — многие бывшие колониальные государства, особенно в Африке. Иначе говоря, конкретные территориальные очертания нынешних национальных государств никоим образом не изоморфны установившимся границам распространения тех или иных печатных языков. Чтобы объяснить ту прерывность-в-связности, которая существует между печат-
ными языками, национальным сознанием и нациями-государствами, необходимо обратиться к большой группе новых политических единиц, возникших в 1776—1838 гг. в Западном полушарии, которые сознательно определили себя как нации и — за любопытным исключением Бразилии — как (нединастические) республики. Ибо они не только были первыми государствами такого рода, исторически возникшими на мировой арене, а следовательно, с необходимостью давшими первые реальные модели того, как такие государства должны «выглядеть»; но сама их численность и одновременность рождения дают плодотворную почву для сравнительного исследования.
КРЕОЛЬСКИЕ ПИОНЕРЫ
Новые американские государства конца XVIII — начала XIX вв. необычайно интересны, поскольку, видимо, почти невозможно объяснить их теми двумя факторами, которые — вероятно, из-за прямой их выводимости из европейских национализмов середины века — в немалой степени определили провинциальное европейское понимание подъема национализма.
Во-первых, ведем ли мы речь о Бразилии, США или бывших колониях Испании, во всех этих случаях язык не был элементом, дифференцирующим их от соответствующих имперских метрополий. Все они, в том числе США, были креольскими государствами, которые создали и возглавляли люди, имевшие общий язык и общее происхождение с теми, против кого они боролись1. На самом деле, можно уверенно сказать, что в их ранней борьбе за национальное освобождение вопрос о языке никогда даже не ставился.
Во-вторых, есть серьезные основания усомниться в применимости к большей части Западного полушария убедительного во всех иных отношениях тезиса Нейрна, который гласит:
«Пришествие национализма, в сугубо современном смысле этого слова, было связано с политическим крещением низших классов... Хотя иной раз националистические движения и были враждебны демократии, они неизменно были популистскими по мировоззрению и стремились вовлечь в политическую жизнь низшие классы. В наиболее типичной своей версии это отлилось в форму неустанного лидерства среднего класса и интеллектуалов, пытавшихся всколыхнуть силы народного класса и направить их на поддержку новых государств»2.
В конце XVIII в. «средние классы» европейского типа, по крайней мере в Южной и Центральной Америке, были
все еще незначительны. Не было там и того, что было бы достаточно похоже на нашу интеллигенцию. Ибо «в те спокойные колониальные дни чтение почти не прерывало размеренный и снобистский ритм жизни людей»3. Как мы уже видели, первый испано-американский роман был опубликован лишь в 1816 г., много лет спустя после того, как разразились войны за независимость. Это ясно свидетельствует о том, что лидерство в этих войнах принадлежало состоятельным землевладельцам, выступавшим в союзе с несколько меньшим числом торговцев и разного рода профессионалов (юристов, военных, местных и провинциальных функционеров)4.
В таких важных случаях, как Венесуэла, Мексика и Перу, одним из ключевых факторов, который с самого начала подстегивал стремление к независимости от Мадрида, было вовсе не стремление «вовлечь низшие классы в политическую жизнь», а, напротив, страх перед политическими мобилизациями «низших классов»: а именно, восстаниями индейцев или негров-рабов5. (Этот страх лишь возрос, когда в 1808 г. гегелевский «секретарь мирового духа» покорил Испанию, лишив тем самым креолов военной поддержки с полуострова на случай возникновении чрезвычайной ситуации.) В Перу были еще свежи воспоминания о великой жакерии под предводительством Тупака Амару (1780—1781)6. В 1791 г. Туссен-Лувертюр возглавил восстание чернокожих рабов, которое привело к рождению в 1804 г. второй независимой республики в Западном полушарии — и до смерти напугало крупных плантаторов-рабовладельцев Венесуэлы7. Когда в 1789 г. Мадрид издал новый, более гуманный закон о рабах, в котором детально расписывались права и обязанности хозяев и рабов, «креолы отвергли вмешательство государства, ссылаясь на то, что рабы склонны к пороку и независимости [!] и необходимы для хозяйства. В Венесуэле — и, по существу, во всех испанских владениях на Карибах — плантаторы выступили против этого закона и добились в 1794 г. его приостановки»8. Освободитель Боливар и сам некогда считал, что негритянский бунт «в тысячу раз хуже, чем испанское вторжение»9. Не следует забывать и о том, что аграрными магнатами-рабовладельцами были многие лидеры движения за не-
зависимость в тринадцати колониях. Даже Томас Джефферсон принадлежал к числу виргинских плантаторов, гневно отреагировавших в 70-е годы XVIII в. на лоялистское заявление губернатора об освобождении рабов, порвавших отношения со своими хозяевами-бунтарями10. Показательно, что одна из причин, позволивших Мадриду в 1814—1816 гг. успешно вернуть свои утраченные было позиции в Венесуэле и до 1820 г. удерживать под своей властью далекий Кито, состояла в том, что в борьбе против взбунтовавшихся креолов он завоевал поддержку рабов (в первой) и индейцев (в последнем)11. Более того, продолжительность континентальной борьбы против Испании, ставшей к тому времени второразрядной европейской державой, которая вдобавок к тому и сама только что была завоевана, предполагает некоторую «социальную узость» этих латиноамериканских движений за независимость.
И все-таки это были движения за национальную независимость. Боливар позже изменил свое мнение о рабах12, а его соратник-освободитель Сан-Мартин в 1821 г. постановил, дабы «в будущем местных жителей не называли более индейцами или туземцами; они дети и граждане Перу и впредь будут известны как перуанцы»13. (Мы могли бы добавить: невзирая на то, что печатный капитализм до сих пор так и не добрался до этих неграмотных людей.)
Итак, здесь есть загадка: почему именно креольские сообщества так рано сформировали представление о том, что они нации, — задолго до большинства сообществ Европы? Почему такие колониальные провинции, обычно содержавшие большие, угнетенные, не говорившие по-испански населения, породили креолов, сознательно переопределивших эти населения как собратьев по нации? А Испанию14, с которой они были столь многим связаны, — как враждебных иностранцев? Почему испано-американская империя, безмятежно существовавшая на протяжении почти трех столетий, вдруг неожиданно распалась на восемнадцать самостоятельных государств?
Двумя факторами, на которые, объясняя это, чаще всего ссылаются, являются ужесточение контроля со стороны Мадрида и распространение во второй половине XVIII
века освободительных идей Просвещения. Несомненно, верно, что политика, проводимая талантливым «просвещенным деспотом» Карлом III (правил в 1759—1788 гг.) все более разочаровывала, сердила и тревожила высшие креольские классы. В ходе того, что иногда язвительно называли вторым покорением Америк, Мадрид дал новые налоги, делал более эффективным их сбор, насильно утверждал торговый монополизм метрополии, ограничивал в свою пользу внутреннюю торговлю в Западном полушарии, централизовывал административные иерархии и поощрял массовую иммиграцию peninsulares*15. Например, Мексика в начале XVIII в. приносила Короне годовой доход в размере около 3 млн. песо. Но уже к концу столетия эта сумма возросла почти в пять раз и достигла 14 млн., из которых лишь 4 млн. уходили на покрытие расходов местной администрации16. Параллельно этому наплыв мигрантов с полуострова вырос к десятилетию 1780—1790 гг. в пять раз по сравнению с периодом 1710—1730 гг.17
Нет сомнений и в том, что совершенствование трансатлантических сообщений и то обстоятельство, что различные Америки разделяли со своими метрополиями общие языки и культуры, предполагали относительно быструю и легкую передачу новых экономических и политических доктрин, производимых в Западной Европе. Успех бунта тринадцати колоний в конце 1770-х и начало Французской революции в конце 1780-х просто не могли не оказать своего могущественного влияния. Ничто не подтверждает эту «культурную революцию» более, чем всепроницающее республиканство новообразованных независимых сообществ18. Нигде в Америках не предпринималось сколь-нибудь серьезных попыток возродить династический принцип, за исключением разве что Бразилии; но даже и там это, вероятно, оказалось бы невозможно, если бы в 1808 г. туда не иммигрировал, спасаясь от Наполеона, сам португальский монарх. (Он оставался там на протяжении 13 лет и по возвращении
* Буквально: жителей полуострова, т. е. урожденных испанцев (исп.). (Прим. ред.).
на родину короновал собственного сына как Педру I Бразильского.)19
Вместе с тем, агрессивность Мадрида и дух либерализма, хотя и имеют ключевое значение для понимания импульса к сопротивлению в испанских Америках, еще не объясняют сами по себе ни того, почему такие единицы, как Чили, Венесуэла и Мексика, оказались эмоционально правдоподобны и политически жизнеспособны20, ни того, почему Сан-Мартину пришлось издать закон, требовавший идентифицировать определенный контингент коренного населения с помощью неологизма «перуанцы». Не объясняют они, в конечном счете, и принесенных реальных жертв. Ибо в то время как высшие креольские классы, понимаемые как исторические социальные образования, на протяжении долгого времени, бесспорно, прекрасно обходились без независимости, многие реальные члены этих классов, жившие в промежутке между 1808 и 1828 гг., оказались в состоянии финансового краха. (Взять хотя бы один пример: во время развернутого Мадридом в 1814—1816 гг. контрнаступления «более двух третей землевладельческих семей Венесуэлы пострадали от конфискаций».)21 И столь же многие добровольно отдали за общее дело свои жизни. Эта готовность к жертвам со стороны благополучных классов дает пищу для размышлений.
Что же тогда даст нам искомое объяснение? Первую зацепку для ответа на этот вопрос мы находим в том поразительном факте, что «каждая из новообразованных южноамериканских республик была с XVI до XVIII вв. административной единицей»22. В этом отношении они стали предвестницами новых государств, появившихся в середине XX в. в Африке и разных районах Азии, и разительно отличаются от новых европейских государств конца XIX — начала XX вв. Первоначальные очертания американских административных единиц были в какой-то степени произвольными и случайными, помечая пространственные пределы отдельных военных завоеваний. Но под влиянием географических, политических и экономических факторов они обрели со временем более прочную реальность. Сама обширность испано-американской
империи, необычайное разнообразие ее почв и климатов и, прежде всего, исключительная затруднительность коммуникаций в доиндустриальную эпоху способствовали приданию этим единицам самодостаточного характера. (В колониальную эпоху морское путешествие из Буэнос-Айреса в Акапулько занимало четыре месяца, а обратная дорога и того больше; сухопутная поездка из Буэнос-Айреса в Сантьяго длилась обычно два месяца, а поездка в Картахену — и все девять.)23 Вдобавок к тому, торговая политика Мадрида привела к превращению административных единиц в отдельные экономические зоны. «Всякая конкуренция с родной страной была американцам запрещена, и даже отдельные части континента не могли торговать друг с другом. Американским товарам, переправляемым из одного уголка Америки в другой, приходилось путешествовать окружным путем через испанские порты, и испанский флот обладал монополией на торговлю с колониями»24. Эти обстоятельства помогают объяснить, почему «одним из основных принципов американской революции» был принцип *uti possidetis, согласно которому каждой нации следовало соблюдать территориальный статус-кво 1810 г. — года, на который приходится начало движения за независимость»25. Их влияние также, несомненно, внесло свой вклад в распад недолго просуществовавшей Великой Колумбии Боливара и Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы на их прежние составные части (известные в настоящее время как Венесуэла—Колумбия—Эквадор и Аргентина—Уругвай—Парагвай—Боливия). Тем не менее, сами по себе рыночные зоны, будь то «естественно»-географические или политико-административные, не создают привязанностей. Найдется ли хоть кто-нибудь, кто добровольно пожертвует жизнью за СЭВ или ЕЭС?
Дата добавления: 2016-04-11; просмотров: 523;
