КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 71 страница
начала XX века удачна еще в том отношении, что он легко ассоциируется с лунным светом. Ведь он серебряный в отличие от золотого солнечного света. Правда, «золотой век» рано обнаружил себя не только утренне или полуденно-солнечным, но и вечерним или предвечерним светом заходящего солнца. И все-таки солнечный свет отличается от лунного своей первичностью. Последний по своей природе еще и отраженный. В отношении «серебряного века» его отраженность — эта характеристика ему не в укор.
Именно с «серебряного века» русская культура обретает ранее нёдостовавшее ей ощущение своего преемства с ушедшей эпохой. На самом деле это совершенно необходимо для культуры, чтобы у ее творцов присутствовала живая связь с предшественниками, чтобы они ощущали себя продолжателями их дела. Нечто подобное состоялось в «серебряном веке» и не могло состояться ранее. Скажем, для «золотого века» обращение к XVIII веку сталкивало его с неоформленностью и брожением еще только пытающейся обрести себя русской новоевропейской культуры. Ученические попытки XVIII века в словесности, философской мысли, научных изысканиях XIX век воспринимал с иронией. Она могла быть мягкой и снисходительной, могла отдавать сарказмом. Что было исключено, так это почтение к деятелям XVIII века как классикам собственной культуры, их воспринимали скорее как детей, себя же — взрослыми мужами культуры. «Серебряный век» меняет ситуацию на противоположную. Теперь «дети» — именно его представители, «взрослые» же остались в «золотом веке». Ну, кто, например, из великих поэтов «серебряного века» дерзнул бы поставить себя рядом с А. С. Пушкиным? В этом был бы свой аналог святотатства. Это было бы, как минимум, смешное и жалкое кокетство, если употреблять наш более умеренный лексикон. Когда М. И. Цветаева, говоря о Пушкине, восклицала «Дружескую руку жму, а не лижу», в этих ее словах было дерзновение, от которого у нее не могло не захватывать дух. Да, рукопожатием Цветаева уравнивала себя с Пушкиным. Но уравнивание здесь имело свои пределы. О себе и Пушкине в том же стихотворении она сказала «прадеду товарка». Так все- таки прадеду, а не только товарка, не только равенство, но и почитание. Прадед у истоков, с ним в любом уравнивании сравняться нельзя. Он прародитель, ему ты обязана своим поэтическим творчеством, но никак не наоборот. Подобного рода соотнесенность и есть настоящее преемство в культуре. В нем уживается и сознание того, что классика культуры есть недосягаемая вершина и стремление к собственному творчеству. Для любого большого поэта «серебряного века», если уж продолжать черпать примеры из поэзии, в пушкинском творчестве раз и навсегда воплотилось нечто более никогда недостижимое. Но оно не только не обессмысливает последующие творческие усилия, но и призывает к ним, инициирует их. Пушкин вдохновляет на поэтические создания последующих поэтов. В этом их отраженная «серебрянность», а вовсе не в каком-то подражании и эпигонстве.
Еще одна примечательная черта культуры «серебряного века» состоит в стремительности его развития. XX век привык смотреть на динамизм исключительно позитивно. «Время вперед!» — по существу сказано не только о натужном порыве первых советских пятилеток, но и обо всем XX веке. Что же касается века «серебряногр», то сама по себе его динамика не так уж разительно отличает его от «золотого века». Н. Я. Эйдельман в свое время обратил внимание на такое поразительное обстоятельство, что Пушкин, — первое безусловно великое имя нашей культурной классики Петербургского периода, родился в 1799 году, а замыкающий ее JI. Н. Толстой — в 1828 году. Они могли быть детьми одной матери, замечает Эйдельман. Немножко грустно становится от такого замечания, у^к очень недолгим оказался наш «золотой век». Ну а «серебряный», тот проскочил с еще более стремительной скоростью. Конечно, в известном смысле он длился, пока живы были его великие представители. Поэтому если, скажем, А. А. Ахматова умерла в 60-е годы, то до них дожил и «серебряный век». Однако как целое, как доминирующее культурное движение эпохи, он был столь недолог, что его пережило большинство творцов «серебряного века», и многие очень надолго пережили. Конечно, он был прерван грубой внешней силой всероссийской смуты. Однако если мы обратимся
к самым ярким и значимым проявлениям культуры «серебряного века» — поэзии, живописи, театру, философской мысли, — то окажется, что в них ведущие течения, творческие направления сменяли друг друга с удивительной стремительностью. Казалось бы, начинавшие «серебряный век» символисты должны были сойти со сцены не прежде, чем их сменит следующее направление. Так, скажем, в свое время поэтов-романтиков сменили реалисты. Однако шумно и резко заявившая о себе, нашедшая множество приверженцев группа акмеистов перехватила поэтическую инициативу у символистов еще тогда, когда многие из последних были совсем молоды. Но и акмеисты всего несколько лет удержались в «передовых» поэтах, их очень быстро потеснили футуристы. Так что, такой, например, старший символист, каким был В. Я. Брюсов к 1917 году, будучи еще далеко не старым человеком, невольно воспринимался современниками едва ли не как патриарх русской поэзии. Очень сходным было положение в русской живописи. Трудно было ожидать, что возникшее на рубеже столетий объединение «Мир искусства» к тому же 1917 году будет казаться разве что не глубокой архаикой. Такая стремительность самоосуществления культуры «серебряного века» уже сама по себе говорит о его неустойчивости, об очень кратких отмеренных ему сроках. Только нараставшее внутреннее беспокойство, ничем не удовлетворимое, могло привести к тем судорожным поискам и метаниям, которые составили динамику «серебряного века».
Когда говорится о «серебряном веке», то имеется в виду доминирующая тенденция в русской культуре конца XIX — начала XX века. Точнее, даже то в ней, что было наиболее значимо, что представляло культуру по преимуществу. Однако как целое, этот период к «серебряному веку» несводим. В его продолжение русская культура знала и совсем другие тенденции и явления. И здесь в первую очередь должно быть отмечено стремительное разложение крестьянской культуры. Вместе с петровскими реформами она перестает быть резко преобладающей реальностью русской жизни, которой так или иначе причастны все сословия. Вплоть до реформы 1861 года крестьянская культура образует низовой слой русской культуры в целом. Она существует как бы параллельно с «высшей» дворянской культурой, почти не испытывая воздействия последней. Какие-то элементы разложения крестьянской культуры налицо еще и до отмены крепостничества. Но пока это процесс в значительной степени подспудный. Вместе с реформой 1861 года кризис культуры крестьянства выходит наружу. Заметный элемент крестьянства пополняет собой ряды городского пролетариата, класса, по самому своему существу лишенного собственной культуры. С другой стороны, сухцественнные изменения состоят в том, что крестьяне постепенно перестали жить своим замкнутым миром — общинами. Столетиями эти общины существовали сами по себе, в огромной степени вне исторического времени. Они были надежной и незыблемой основой русской государственности и самодержавия, сами практически никак не причастные государственной жизни Московского царства, а затем Российской империи.

|
К концу XIX — началу XX веков крестьянство оказывается на перепутье. Ему предстоит или трансформироваться в слой хозяев-работников-буржуа и, соответственно, пролетариев — наемных работников у тех же буржуа или же встать в непримиримо-враждебные отношения к дворянству, нарождающейся буржуазии и той «высшей» культуре, которая с ними связана. Последняя перспектива осуществлялась крестьянством и ранее, но как бунты Пугачевых и разиных. Бунт по своей сути — дело чисто разрушительное, слепое и стихийное. Теперь же вопрос встает не о бунте, а о революции. И конечно же, не за счет каких-то новых внутренних ресурсов крестьянства. В революцию, то есть действия программные, организованные, хотя бы относительно последовательные, крестьянство толкали наследники разно- чинцев-нигилистов 60-х годов XIX века. Самый зловещий и успешно-деятельный из этих наследников, революционный лидер, сформировавшийся и развернувшийся как раз в период «серебряного века», как-то сказал по поводу романа «главного» шестидесятника Н. Г. Чернышевского «Что делать?», что он его всего перепахал. В ленинской фразе очень точно отражено существо дела. Возникшие на рубеже столетий радикальные и экстремистские революционные
течения и организации не могли бы состояться, не будь они наследнйками предшествующих поколений. Теперь, однако, почва для их радикального нигилизма сильно изменилась. Своему неприятию самодержавия, русской государственности, истории и культуры наследники разночинцев-нигилистов могли найти поддержку у крестьянства и тем превратить всегда подспудно тлеющие уголья крестьянского бунта в пламя революции.
Не в том дело, что крестьянство на рубеже столетий было фатаЛЬйо предопределено к радикальному отвержению государственного строя России и культуры «серебряного века». Дворянская культура всегда оставалась чуждой крестьянству, с государством же оно по- прежнему, как и в допетровской Руси, было связано патриархально через фигуру царя- батюшки. Такая связь была вполне органична для дореформенного крестьянства с его общинным укладом. Теперь же по мере разложения общины и в перспективе его обуржуазивания или пролетаризации крестьянство оказывалось в ситуации внутренней растерянности. Будучи основной массой населения России, оно находилось в чуждом ему мире российской государственности и русской культуры. Преодоление отчуждения и растерянности, врастание в новые для себя реалии — процесс трудный и сам по себе. Но его трудности стали непреодолимыми ввиду того, что в крестьянстве, и в огромном своем большинстве недавно вышедшем из крестьянства пролетариате, нашли себе опору разрушительно-нигилистические устремления революционной интеллигенции. Когда-то в 70-80-е годы она безуспешно ходила в народ и звала Русь к топору. Теперь, в начале XX века призывы революционеров начали находить поддержку. Так, революционная пропаганда делала акцент на TdM, что крестьянство неизбывно страдает от помещичьего землевладения, а пролетариат — от безудержной эксплуатации буржуазии. Этим формировалась или поощрялась классовая ненависть. И совершенно опускалось то обстоятельство, что полная экспроприация помещичьих имений или частных заводов и фабрик и перераспределение их доходов среди бедных и неимущих существенно их положение не поправили бы. К тому же, то же помещичье землевладение в России и так стремительно сокращалось. Если бы не революция 1917 года, оно все равно просуществовало бы очень недолго в качестве значимой реальности сельскохозяйственного производства.
В действительности революционную интеллигенцию, крестьянство и пролетариат интересовали очень разные вещи. Первая вполне нигилистически стремилась начать русскую историю и культуру с чистого листа. Крестьянству грезилось свое крестьянское царство с изобилием земли, сытой и устроенной жизнью. Пролетариат, как и интеллигенцию, с прошлым и настоящим России ничто не связывало, поэтому нигилистическая пропаганда интеллигенции легко становилась собственными словами и лозунгами пролетариев. В результате же встреча трех разнородных сил и слоев русского общества привела к тому революционному взрыву, который стремительно покончил и с «серебряным веком», и с Петербургским периодом русской истории и культуры в целом. Противостоять ему деятели «серебряного века» не могли еще и потому, что самый культурный слой населения России оставался по-прежнему очень тонким, несмотря на расширение по сравнению с XIX веко!^. Да, теперь доля образованных людей в населении России заметно возросла. Но одновременно ситуация осложнилась в том отношении, что носитель культуры «золотого века» — дворянство переживало свое разложение в качестве устойчивого социального слоя и сословия. Дворянство становилось не более, чем фактом происхождения, не подкреплялось ни наличием состояния, ни тем более государственной (прежде всего военной) службой. Не возникло в России и буржуазии как многочисленного слоя населения со своей буржуазной культурой, хотя бы своими буржуазными акцентами в общей для нее с дворянством «высокой» культуре. Поэтому «серебряный век» создавали духовные наследники «золотого века» , связанные с ним тысячами нитей. Но у этих наследникой недоставало твердой почвы под ногами еще более, чем у их предшественников. У последних по крайней мере были свои «дворянские гнезда», было ощущение себя помещиком-барином, вольно устроившимся на родной земле, хотя
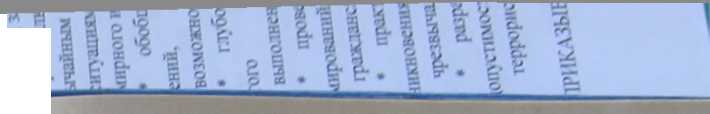 и лишним для российского государства. Представители «серебряного века» уже не знают ничего подобного. За ними не стояло устойчивого быта, тем более ощущения принадлежно- сти к определенному сословию или слою населения, реально определяющему жизнь страны. Они представляли главным образом самих себя, что и делало деятелей «серебряного века* беспомощными перед напористой активностью революционеров-нигилистов, настойчиво и небезуспешно искавших опору в пролетариате и крестьянстве.
и лишним для российского государства. Представители «серебряного века» уже не знают ничего подобного. За ними не стояло устойчивого быта, тем более ощущения принадлежно- сти к определенному сословию или слою населения, реально определяющему жизнь страны. Они представляли главным образом самих себя, что и делало деятелей «серебряного века* беспомощными перед напористой активностью революционеров-нигилистов, настойчиво и небезуспешно искавших опору в пролетариате и крестьянстве.
Глава 8
КУЛЬТУРНАЯ КАТАСТРОФА XX ВЕКА
Естественное развитие русской культуры Петербургского периода и, в частности, его «серебряный век» были насильственно прерваны большевистским переворотом 1917 года и последующими событиями. Очевидно, между тем, что эпоха в культуре, тем более такой продолжительности, как Петербургский период, не может прекратиться резко и внезапно в течение недель, месяцев и даже лет. Каждая из эпох медленно вызревает в недрах предшествующей и так же постепенно завершается в пределах уже другой эпохи или, как в нашем случае, в пределах наступающего исторического и культурного безвременья. Что касается петербургского периода и «серебряного века», то последние его выдающиеся представители дожили до 60-х и даже 70-х годов XX века. В 20-х годах «серебряный век» был еще ощутим в культуре, продолжавшей свое существование в Советском Союзе. И все-таки это была остаточная жизнь — доживание культуры Петербургской России. Петербургская Россия к этому времени закончилась и наступили другие времена. В 20-е годы многие русские мыслители пытались понять, что же за эпоха началась в России после октябрьского переворота и гражданской войны. Наиболее влиятельной была точка зрения, согласно которой большевистская Россия поворачивала к Востоку. Период сближения с Западом закончился, страна потеряла значительные территории в Европе, вернула свою столицу из Петербурга в Москву и, соответственно, вернулась к противостоящей Западу позиции Московской Руси. При этом подразумевалось, что после Киевского, Московского и Петербургского периодов русской истории и культуры пришел черед какому-то еще неведомому четвертому периоду. Считалось, что в 1917-1922 годах в России разразилась смута. Но, какой бы кровавый и беспощадный режим вслед за смутой не наступил, главное, что она закончилась. Все дело, однако, в том, что если смута и закончилась, то вовсе не наступлением новой исторической и культурной эпохи. Вслед за смутой начался длительный период исторического и культурного безвременья. В России — Советском Союзе установилось какое-то подобие порядка и организации жизни. Но это было именно подобие порядка и организации, потому что первые тридцать пять лет существования советской власти страна находилась в состоянии непрерывной гражданской войны, к которой в 1941-1945 годах добавилась еще и война с внешним врагом. Гражданская война в России после 1921-1922 года приняла необычные и, главным образом, скрытые формы. Ее осуществляла не столько армия, сколько специально для этого созданные репрессивные органы. Причем репрессии режима по отношению к собственному народу носили чаще всего упреждающий, превентивный характер. Они были направлены на то, чтобы искоренить всякую возможность открытого проявления недовольства и сопротивления. Это было своего рода вооруженное нападение без объявления войны и без реальных поводов к ней, наподобие того, которое совершила нацистская Германия в 1941 году на Советский Союз. С той, правда, разницей, что у нас вооруженные нападения совершались периодически и непрерывно и к тому же на свой собственный народ. Когда

|
после 1953 года непрерывная гражданская война с собственными гражданами прекращается и наступает относительное перемирие, то оно менее всего означало прекращение исторического и культурного безвременья. Просто оно приняло менее катастрофические формы. Советский Союз из полосы своего репрессивного и кровавого утверждения вступал в полосу стагнации н разложения. К началу 90-х годов, времени крушения большевистского режима, новая историческая и культурная эпоха так и не состоялась. Петербургский период так пока и остается последним в русской культуре. Но как же тогда обозначить то, что происходило в России большую часть XX века? Ведь в ней жили люди, которые получали образование, воспитывали детей, героически защищали свою Родину от страшного и беспощадного врага, наконец, создавали произведения искусства, делали научные открытия?
Можно, конечно, принимать во внимание, что в промежутке между 1917 годом и 90-ми годами XX века в России происходили события и возникали явления, имеющие отношение к русской истории и культуре. Понятно, что в это время не наступило абсолютного исторического и культурного небытия. Между тем эпоха в культуре характеризуется не только тем, что она представляет собою отрезок времени, в течение которого возникает нечто, относящееся к памятникам и свидетельствам культуры. Об эпохе или периоде в истории народа или межэтнической общности можно говорить лишь тогда, когда по отношению к ним осуществим подход как к своего рода субъектам исторического процесса, когда они образуют некоторую целостность коллективной души с ее собственным мйроотношением и самоощущением. Существенным признаком такого субъекта является его способность воспроизводиться на своей собственной основе, выходить за пределы своей наличной данности, в самом себе обретая источник своего развития. Так, в частности, происходило в Петербургский период русской истории и культуры. Начинался он как самоотречение и сопровождавшее его культурное ученичество. От очень многого в себе русский человек отказывался и очень многое обретал на Западе. Весь XVIII век был преимущественно веком отказа и обретения на стороне. Только к началу XIX века вполне обозначилась внутренняя самостоятельность Петербургского периода, он обнаружил себя чем-то не сводимым ни к западным влияниям, ни к тому, что сохранялось от Московской Руси. Состоялся и оформился новый в рамках русской истории субъект исторического творчества.
Эти сами по себе достаточно очевидные соображения по поводу периодизации русской истории культуры не позволяют отнестись ко времени существования Советской России как к историко-культурной эпохе или периоду. Потому прежде всего, что у нас между 1917 годом и 1990-ми годами не было развития на своей собственной основе. Не нужно забывать, что Советская Россия первые десятилетия ее существования была страной, где в культуре погоду делали люди, родившиеся и сформировавшиеся в Петербургской России. Во всяком случае искусство и наука 20-30-х годов у нас развивались усилиями людей, принявших советскую власть или смирившихся с нею, но вовсе не бывших и не могших быть «советскими людьми». Россия была для них страной другого, чем прежде, режима, сменилась именно власть, к ней нужно было приспособиться или ей служить. Но новая культура так быстро не возникает. В культуре продолжался, доживал и изживал себя Петербургский период. Окончательно завершился он у нас в стране со смертью Пастернака и Ахматовой, Бахтина и Лосева, постепенно становясь все более редкими вкраплениями в послепетербургском существовании России.
Вплоть до 40-х годов Россия оставалась прежде всего страной советской власти над последними поколениями Петербургского периода. Последующие поколения демонстрируют в первую очередь понижение уровня культуры и исторического творчества, они живут все более оскудевающими духовными ресурсами. Своего, не петербургского, им передать последующим поколениям практически нечего. Поэтому конец Советской России был запрограммирован. Открытым оставался только вопрос о том, будет ли этот конец переходом (трансформацией и возрождением) или историческим небытием.
ипй МеЖДУ 1917 Г0Д0М и началом 1990-х годов не состоялось исторической и культур- РтппГпй 0СТаеТСЯ Пр”знать этот этап бытия России безвременьем (или затянувшейся ката- . ° П0СЛ,едующей стагнацией). Для катастрофы три четверти века — как будто непо-
но ольшои срок, то, что маловато для эпохи, кажется нам слишком длительным для оезвременья, но это если смотреть на века по меркам Нового Времени. В большом же историческом времени длящаяся катастрофа - явление распространенное. На Западе между античностью и Средними Веками — не менее трех веков безвременья (VI—VIII в.). У нас послемонгольская Русь становится чем-то эпохальным только в конце XIV века.
Едва ли нужно специально оговаривать, что историческое и культурное безвременье большую часть XX века в России ничуть не противоречит существованию русской культуры в промежутке между 1917 годом и 1990-ми годами. Эта культура могла иметь достижения мирового уровня, но она оставалась культурой, существующей в Советской России, но вовсе не советской культурой. Тут все вполне прозрачно: чем больше советского, тем меньше культуры. Советским можно было инфицироваться, оно оставляло свой так называемый отпечаток времени и на великих творениях, но не было и не могло быть сердцевиной и существом.
В соответствии со сказанным сегодня вопрос о наследии советского периода должен ставиться с пониманием того, что при большевистском режиме сохранялось нечто от культуры, заданное предшествующим периодом, который был действительно причастен истории и культуре. Предшествующая культура не только «не успела» до конца изжить себя в крайне неблагоприятных условиях Советской России, но и в чем-то была необходима для того, чтобы гибель режима не наступила сразу же вслед его кровавому торжеству.
Большевистский режим прекрасно сознавал необходимость культуры для своего существования. Но исходно она была приемлема для него исключительно как социалистическая культура. Еще совсем недавно это словосочетание звучало очень привычно, для кого-то усыпляюще, для кого-то враждебно. Между тем в этом словосочетании проглядывает вся суть нового отношения к культуре. Она приветствуется, но не как таковая, а обязательно в случае соответствия некоторым предъявляемым ей требованиям. Последние же имеют отношение уже к совсем другой, чем культура, реальности, — к идеологии. Идеология, в данном случае социалистическая и коммунистическая, определяет и то, что приемлемо в культуре, и то, что подлежит устранению. В первые годы большевистского режима Россия оставалась в культурном отношении вполне чуждой коммунистической идеологии. Ее носителями были люди, захватившие власть и осознававшие себя представителями новбй советской власти. Задача, стоявшая перед ними, заключалась в том, чтобы из России, страны с советской властью, сделать советскую страну, в которой живут уже не люди, подчиняющиеся советской власти, а советские люди. Создание советского человека стало коренной задачей так называемой культурной революции. Она виделась ее деятелями как продолжение все того же политического и военного переворота. Вот как о ней говорил главный идеолог большевизма:
«Культурная задача не может быть решена так быстро, как политическая и военная. Нужно понять, что условия движения вперед теперь не те. Политически можно победить в эпоху обострения и кризиса за несколько недель. На войне можно победить за несколько месяцев, а культурно победить в такой срок нельзя»
Убожество суконного языка В. И. Ленина лишний раз свидетельствует о странном и страшном видении большевиками культуры. Социалистическая культура, как н социализм в целом, должна стать результатом борьбы и победы. В этой борьбе заранее ясны цели и задачи, заранее разработаны приемы и методы. Дело только в неуклонно поступательном и вместе с тем гибком их осуществлении. Приведем один только пример требуемой от большевиков их вождем гибкости в деле осуществления культурной революции: .Необходимо использовать все, что против нас создал капитализм в смысле культурных ценностей. В этом трудность социализма, что его нужно строить из материалов, созданных чужими людьми.

|
но только в этом возможность социализма». И далее: «Нам нужно строить сейчас практически, и приходится руками наших врагов создавать коммунистическое общество».
Во всей цитированной невнятице предельно очевидно по крайней мере одно: вождь и идеолог режима настроен прагматично, для достижения его цели все средства хороши, даже самые неожиданные. Но при всей гибкости и прагматизме Ленина для него новая социалистическая культура неразрывна с насилием, она создается насильственным, идущим извне, а не из самой культуры, воздействием на предшествующую культуру. Она считается враждебной, если не прямо злокозненной, в отношении социализма, ее нужно переиграть и переломить, результатом чего будет социалистическая культура. Очень характерно, что для большевистского режима проблема культуры стояла как проблема культурной революции и культурного строительства.
Культурная революция при этом мыслились как составная часть целого — социалистической революции. Первоначально революция состояла в вооруженном перевороте, целью которого был захват власти и создание новой политической системы. За политическими изменениями последовал и экономический переворот в качестве экспроприации и огосударствления частной собственности на средства производства. Захватив политическую власть и установив господство в сфере экономики, большевики стремились к тому, чтобы новым политическим и экономическим отношениям соответствовал новый человек. На его создание и были направлены культурная революция и культурное строительство. На уровне официальных лозунгов и программ речь шла прежде всего о резком повышении образовательного уровня населения и формировании у него марксистско-ленинского мировоззрения. Одно предполагалось неотрывным от другого. И нужно сказать, что культурная революция осуществлялась вполне успешно. Правда, не столько в качестве культурной, сколько в качестве революции. Наиболее впечатляющим примером здесь может служить осуществление линии на ликвидацию неграмотности и далее на переход ко всеобщему среднему образованию, так же как и на превращение высшего образования в массовое явление. Когда сопоставишь статистику накануне первой мировой войны с данными за 60-70-е годы (по Российской империи и Советскому Союзу, соответственно), происшедшие в сфере образования перемены действительно поражают. В императорской России неграмотность среди крестьянства была очень широко распространена, в Советском Союзе она — исключение, а не правило в любых слоях населения. Буквально в десятки раз возросло число лиц с высшим образованием. Но приглядимся к происшедшим переменам именно с позиций культуры, и окажется, что стандарты образования в стране резко снизились. Причем власть снижала их сознательно и целеустремленно. Так, уже в начале 20-х годов специальным декретом было ликвидировано классическое образование, предполагавшее изучение древних языков. В дореволюционной России только окончание классической гимназии давало право на поступление в университет. Теперь, понятное дело, это стало необязательным. В университеты поступали после обычных средних школ, ни в какое сравнение не шедших с гимназиями, так же как и стоявшими ниже их реальными училищами. Зато число университетов непрерывно возрастало, так же как и количество обучающихся в них. Выпускали они теперь людей, в огромном большинстве своем, по меркам начала века, полуобразованных. В лучшем случае — узких специалистов (если речь вести только о естественных науках). В России Петербургского периода почти два века ушло на то, чтобы достичь западного уровня университетского образования. В результате же большевистского культурного строительства он был очень быстро уничтожен. Правда, не прямой разрухой, а изменением самого характера образования. Теперь оно неизменно мыслилось узкофункционально. С одной стороны, подготовка специалистов преимущественно для народного хозяйства. С другой же стороны, образование превращается в идеологическую выучку и обработку.
Происходившее в сфере образования было вполне закономерно и естественно для установившегося в стране строя жизни. Он предполагал существование вполне определенного
типа индивидуально-человеческого существования. В Советском Союзе очень быстро должны были исчезнуть фигуры дворянина, буржуа, чиновника, пролетария, крестьянина. Все это были человеческие типы из ненавистного и отрицаемого прошлого. Вбльшевики же установили строй, в котором каждый человек бесконечно зависел от государства. Оно в максимально возможных пределах стремилось определять жизнь каждого. Теперь «каждый» — это функционер-исполнитель спускающегося к нему сверху задания. Если это рабочий, то здесь все наиболее очевидно. Он самым откровенным образом ежедневно занят выполнением производственного задания. Крестьянин же для новой системы отношений подходил несравненно менее рабочего. Но большевистский режим очень быстро пришел к решению превратить крестьянство в сельскохозяйственных рабочих. И успешно решил эту задачу в процессе коллективизации. В Советском Союзе уже в первые десятилетия исчезают лица так называемых свободных профессий — врачи, адвокаты, художники и т. п. Все они определяются на службу государству, становясь в этом отношении неотличимыми от промышленных и сельскохозяйственных рабочих так же, как от собственно государственных служащих, партийных функционеров, военных, работников сферы обслуживания и т. д. Хотя она и была целиком неосуществима, тенденция к выравниванию положения всех слоев населения страны в отношении государства действовала во все время существования большевистского режима, формируя одинаковый в своей основе тип человеческого существования — советского человека. Не только вполне бессильного перед лицом государства, но и бесконечно непритязательного и исполнительного. Непритязательность, правда, постепенно начала превалировать над исполнительностью, превращаясь в терпеливое безразличие к жизненным невзгодам, так же как и в равнодушное отношение к тому, что от советского человека требовалось исполнить. Так что, культурная революция и культурное строительство, несмотря на то, что они были победоносны, все же не могли не подрывать своих оснований. Чем успешнее они осуществлялись, тем меньше толку было для режима от достигнутых успехов. И тем не менее оставить культуру предоставленной самой себе, «пустить ее на самотек», было немыслимым. Она неизбежно приняла бы формы, несовместимые с победившим политическим и экономическим строем. Поэтому за культурой осуществлялся непрерывный политический и идеологический контроль. В лучшем случае каким-то ее росткам давали возможность сохраниться. Правилом, однако, была повсеместная имитация культуры. Создавалась какая- то новая и особая социалистическая литература с присущим ей методом социалистического реализма. На новые коммунистические позиции вставали различные виды искусства: кино, театр, живопись, музыка и т. д. Становились марксистскими философия и общественные (ранее — гуманитарные) науки. Все это вместе взятое составляло грандиозный поток всякого рода произведений и трудов, который и именовался социалистической культурой. Просто же культура иногда умудрялась сохраняться в зазорах между поточным производством-имитацией. И потом, почти исключительно имитацией, то есть социалистической культурой, она смогла стать далеко не сразу. Не забудем, что в 20~30-е годы в Советской России жили люди преимущественно Петербургского периода и «серебряного века*. Пока они не перестроились или их не уничтожили, ими было создано многое, относящееся к культуре как таковой. Здесь со всей примитивной определенностью действовала одна и та же закономерность: чем крупнее была творческая личность, чем значительнее было создаваемое ею — тем менее они вписывались в новую социалистическую культуру, тем труднее и проблематичнее становилось существование творца и его творения. Исключений практически не было. Различие в отношении к крупным деятелям культуры состояло только в одном. Одних власть старалась приручить, используя в своих целях, других прямо и безоговорочно давила и репрессировала. Результат, несмотря на различие биографий приручаемых и отвергаемых, для культуры был один — она всячески изживалась и вырождалась. Когда же в культуре нечто все-таки могло состояться, то весьма характерным для советского безвременья обраром. Как именно, попробуем проиллюстрировать примером, касающимся творческого пути М. А. Булгакова. Он является не только одним из крупнейших русских писателей XX века, но и, несмотря на свою жизнь и Советской России, всеми корнями укорененным в петербургской России. С творчеством Булгакова, в частности, связана одна тема, не получившая такой уж широкой разработки в русской литературе предшествующих эпох. Это тема аристократизма и связанных с ней тем верности и служения, понимаемых как мастерское, виртуозное даже, исполнение своего долга. Ничего более чуждого наступившим жизненным реалиям и веяниям представить себе невозможно. Отсюда практически постоянная, хотя и знавшая свои взлеты и относительные затишья, травля Булгакова. Да и как его было не травить режиму и его горячим сторонникам, если, скажем, булгаковская «Белая гвардия» вся полна восхищения теми, кто уже самим своим существованием противостоял большевистской власти, был несовместим с нею. Но последний и главный роман Булгакова «Мастер и Маргарита» при жизни автора опубликован быть не мог. Писался он Михаилом Афанасьевичем заведомо в стол. Фактом нашей жизни роман стал только в 60-е годы и сыграл свою роль в разложении Советского Союза. Однако не его критический пафос сам по себе важен для нас в настоящем случае. А прежде всего то, что сюжет романа, определяющие его смыслы разворачивают- ся помимо той современности, в которой живут главные герои «Мастера и Маргариты». Они и живут в советской Москве 30-х годов XX века, и не принадлежат ей. Ну, в самом деле, какое отношение имеет все, что волнует Мастера и его спутницу, к современности? Разве что отрицательное, как реальность, отрицающая и выталкивающая их из жизни. Положительно герой и героиня романа обращены к событиям, около двух тысяч лет назад произошедшим в Иерусалиме на крытой колонаде дворца Ирода Великого, на Голгофе, в Гефсиманском саду. Главное в их жизни разрешается через встречу с инфернальной реальностью Воланда и его свиты. Как большому художнику, Булгакову нечего было сказать о той советской московской жизни, которая была перед глазами его современников или самими ими. Кроме разве сцен, рисующих образы смешной, убогой, отвратительной жизни. По существу даже и не жизни, а чего-то выморочного и пустого. И ведь Булгаков не какой-то там непримиримый политический противник советской власти. Оставаясь художником, он не в состоянии был сделать образами, наполненными жизнью, то, что жизнью оставлено. Для подлинного творчества советская действительность материала не давала. От нее оставалось отвернуться или выразить на пределе отрицания и неприятия. Действительно, живые герои булгаковского романа кто угодно, только не советские люди. Это ли не характеристика той реальности, в которой жил Булгаков. В рассмотренном отношении с ним Могут быть сопоставлены другие крупные деятели культуры, чье творчество относилось к безвременью большевистской России. Так, Б. JI. Пастернак свой, написанный уже не в 70-е, а в 50-е годы роман «Доктор Живаго», посвящает предреволюционному периоду. Главный герой романа совершенно несовместим с той Россией, которая приходит на смену имперской России. В ней ему остается умереть. Даже певец революции, первый по рангу «советский писатель» М. Горький в своих уступках и капитуляции перед режимом не сумел зайти так далеко, чтобы отразить советскую действительность в своих произведениях. Он упорно писал только о том периоде русской истории и культуры, которые так страстно и непримиримо отрицал. Писал потому, что художественное произведение может отражать жизнь, выражать ее, концентрируя в себе жизненные смыслы, но оживлять умершее или омертвевшее оно не в силах. Платить дань режиму даже М. Горький был в состоянии только дежурной публицистикой, но никак не творческими произведениями. Последующие поколения легче усваивали правила игры в социалистическую культуру или даже не подозревали о том, что имитируют культуру по правилам режима и его идеологии.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 506;
