КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 70 страница
Возвращаясь к нашему отечественному дворянину — «лишнему человеку» — приходится констатировать: свое дворянское преимущество — привилегию-свободу — он потерял уже одним тем фактом, что стал «лишним человеком». Его свобода, в отличие от недолгой дворянской свободы поколений «Александрова века», оставалась чисто внутренней, свободой определений и оценок, творческих усилий в сфере мысли и искусства, но уже не свободой образа жизни, подобающего дворянину. «Лишний человек» для мужика, купца или мещанина был 'странкым и чудаковатым существом, а вовсе не тем барином-аристократом, за которым нужно изо всех сил тянуться и кому нужно подражать как настоящему по праву и достоинству хозяину жизни. Более того, сами «лишние люди» не только не удержались на высоте своего дворянства и аристократизма, но и признали преимущество перед собой так называемого •« народа ».

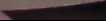
Нужно сказать, что «народ» — это своеобразно русское понятие и притом очень характерное для нашей культуры, начиная с «золотого века». Вообще говоря, народом вправе называться все население данной страны, если оно образует национальную общность. У нас между тем под народом с середины XIX века подразумевается прежде всего, если не исключительно, «простонародье», то есть представители низших сословий и главным образом крестьянства. В лице «лишнего человека» дворянство поклонилось в ноги крестьянству и в нем, а не в себе признало русский народ. Этим под сомнение ставились не только петровские реформы, но и вся новоевропейская дворянская культура, которая в творчестве тех же самых «лишних людей» как раз и достигла своего расцвета. Деятели нашего «золотого века» могли усматривать в русском крестьянстве «народ-богоносец» (славянофилы), видеть в крестьянине
«прирожденного социалиста* (А. И. Герцен), восхищаться мудрой простотой его жизни (JI. Н. Толстой), могли, наконец, сострадать русскому крестьянину в его угнетенности, беспросветной нищете и долготерпении (этот мотив получил широчайшее распространение). Но в любом случае идущее от «лишних людей» народничество русской дворянской культуры отдавало капитулянтством «высокой» культуры перед «низкой». До предела эта тенденция была доведена JI. Н. Толстым. В нем совершенно поразительным образом сочеталась принадлежность к «высокой» культуре со стремлением к опрощению и возврату в «низовую» культуру. Толстой — это граф, который попытался стать мужиком, и одновременно самый крупный новоевропейский романист, призывавший учиться писать у крестьянских детей.
В нем же наиболее очевиден и Внутренний надлом русского «золотого века». Надлом, который не помешал необычайной продуктивности русской культуры и в то же время не был ею преодолен.
Царствование Николая I (1825-1855), на которое приходится и появление «лишнего человека», и расцвет русской культуры «золотого века», завершается накануне унизительного военного поражения, которого в России никто не ожидал. С этим поражением остается позади государственное величие империи и вместе с тем начинается оживление общественной жизни, больше не регламентированной мелочной и жесткой опекой Николая I и его чиновников. Казалось бы, в такой ситуации на передний план должны были выйти «лишние люди», многие из них были достаточно молоды, не говоря уже об одаренности. Однако в следующий период «золотого века», который продолжался приблизительно до середины 90-х годов, тон в общественной жизни задают совсем другие силы и деятели. Обыкновенно их именуют революционными демократами и разночинцами. Стоит обратить особое внимание на последнее слово. Буквально быть разночинцами и означало принадлежать к различным сословиям. Точнее же, наверное, было бы сказать, что разночинцы находились вне сословий, за счет того, что в их среде сословия перемешались и потеряли свое значение. Они рекрутировались из того же дворянства, естественно, без- и мелкопоместного, духовенства, мещан, военного сословия, были в них представлены и выходцы из крестьян. Внесослов- ность разночинцев в стране с по-прежнему ярко выраженными сословными различиями, где не принадлежать ни к какому сословию было попросту невозможно, была связана прежде всего с позицией в общественной жизни и культуре. Быть разночинцем в той или иной мере означало неприятие существующего строя и всего уклада русской жизни. Неслучайно разночинцев называли еще и нигилистами. Разночинцы-нигилисты жили устремлением исключительно в будущее, «темной старины заветные преданья» мало что говорили их душе. Старшее поколение разночинцев росло еще в николаевское время. И его ненависть к николаевской России, ее властям и самому императору буквально потрясает. Когда в 1855 году девятнадцати летний студент Н. А. Добролюбов написал по поводу Николая I такие строки: «А между тем сколько мелочного самолюбия, сколько жестокости, невежества, эгоизма показал он в последующее время! Ни лист, ни два, а несколько томов можно наполнить рассказами его ужасных, отвратительных деяний. Каждое имя из приближенных к нему людей давно уже сделалось символом низости, грубости, воровства, невежества... Но довольно. Нам еще будет много случаев возвратиться к этому ужасному тирану...»,[136]в их тоне и пафосе не было ничего исключительного. Всякая связь между самодержавием и теми, кто в царствование Александра II будет определять умонастроение общества, диктовать ему свои мнения и суждения, была разорвана еще в годы правления Николая I. Недовольство, а самое главное, отчуждение и негодующее неприятие власти в 30-40 годы еще таились под спудом. Либеральное правление Александра II вывело их наружу. Теперь речь шла уже не просто о недовольстве действиями государя. Самодержавие, царская власть осуждались прежде потому, что они есть и самим фактом своего существования не дают России свободно дышать.
Разночинцы относились к Александру II также, если не более непримиримо, чем к его отцу. Их отношение к императору ничуть не смягчили действительно серьезные и глубокие реформы: крестьянская, административная, судебная, военная, установление, пускай, и не свободы слова, но все же такой степени гласности, которая даже отдаленно не сопоставима с отношением к печати в предшествовавшее царствование. Все это воспринималось как половинчатые меры, ничего не меняющие в существе российской действительности. Даже злодейское убийство Александра II не вызвало среди разночинцев-нигилистов опамятования. Конечно, не все из них приветствовали гибель государя. Но сочувствие к убийцам было распространено широко. Несравненно шире, чем страх за свою родину, которая действиями террористов подталкивалась в пучину хаоса. В России как-то незаметно выросло поколение, бесконечно требовательное к власти и совсем не отдающее себе отчета в том, как тяжело ей приходиться, с какими неразрешимыми в ближайшей и более отдаленной перспективе противоречиями она сталкивается. В самодержавии видели одно только препятствие на пути прогресса и вовсе не замечали его устроительной деятельности. Непримиримыми разночинцы остались и к императору Александру U, и его правлению, потому что разночинцам-нигилистам нужна была Россия, созданная заново и по их собственному замыслу. Революционные замыслы разночинцев-нигилистов не осуществились, но властителями дум нескольких поколений они были. Их власть имела, однако, очень мало общего с русской культурой того времени. Разночинцы были прежде всего идеологами и пропагандистами. Поневоле их рупором становилась литературная критика. В пределах критических статей текущих журналов они определяли общественное мнение. Этих статей ждала как манны небесной и с восторгом их прочитывала образованная публика. Между тем, настоящая культурная жизнь осуществлялась вовсе не в трудах идеологов-шестидесятников и их наследников. Безнадежно проиграв разночинцам в сфере идей и умонастроений, в культуре по-прежнему определяющую роль играли «лишние люди* и прямые продолжатели дворянской культуры. В 60-70-е годы, скажем, куда громче звучали имена Чернышевского, Добролюбова и Писарева, чем Тургенева, Достоевского и Толстого. Между тем слишком очевидно в данном случае, кто есть кто, за кем не просто приоритет, а единственное право представлять «золотой век» русской культуры.
Если в середине XIX века с появлением «лишнего человека» русская культура, так сказать, «отделяется от государства», отчуждается от государственной жизни самодержавной России, то начиная с 60-х годов стремительно идет процесс разделения идеологии и культуры. Господствующие идеологические течения уже не отчуждены от государства, а непримиримо враждебны ему. Отчужденность свойственна теперь скорее отношениям между идеологией и культурой. Там же, где они встречались и перекрещивались, культура неизменно проигрывала. Удивительно, но почему-то на русской почве революционно-демократическая или разночинно-нигилистическая идеология более всего отразилась на живописи. В результате она приобрела тематическую задонность и поучительность, далеко уводившие ее от собственно живописных задач. В философской мысли господствующие идеологические течения обнаруживали свое влияние не содержательно-тематически, а скорее своими мыслительными навыками и приемами. Идеология стремится прежде всего убедить и привлечь на свою сторону, ей чужд настоящий пафос истины, ее непредвзятые, последовательные и трудные поиски. Такие ее особенности невольно заражали и делавшую свои первые шаги русскую философию. Ее бесспорно крупнейший в XIX веке представитель В. Соловьев, к примеру, рассуждал в своих сочинениях о предметах, достаточно далеких от злобы дня: об отвлеченном и конкретно-целостном знании, о соотношении философии и христианского вероучения, о характере связи между Богом и человеком и т. д. По существу же, он, как правило, оставался оперирующим философским и богословским терминологическим аппаратом идеологом-публицистом.
Наверное, самых впечатляющих успехов идеологизация русского общества достигла с фактом появления у нас интеллигенции. С конца XIX века интеллигенцией в России стали называть представителей ее образованного слоя: ученых, учителей, врачей, литераторов, инженеров и т. д. Очень показательно, что несмотря на свои западные корни, слово «интеллигенция» приобрело на русской почве свое исключительно русское значение. Запад интеллигенции в нашем смысле не знал или почти не знал. Потому именно, что у нас под интеллигентом понимался вовсе не интеллектуал или человек с высшим образованием как таковой. С принадлежностью к интеллигенции связывались еще и так называемая идейность, наличие каких-то возвышенных и при этом не имеющих отношения к религии убеждений. Они обязательно должны были быть прогрессивными, устремленными в светлое будущее и в той или иной степени не приемлющими настоящее. Последнее подлежит преобразованию в соответствии с убеждениями интеллигента. В такого рода преобразовании интеллигент обязательно ощущает себя избранником, солью своей земли. Иногда он готов поклониться и народной правде, и опроститься в ее духе так, как он его понимает. Что напрочь исключено для интеллигента или по крайней мере внутренне ему чуждо, так это поддержка государства и власти. Как минимум, он должен находиться в оппозиции к государству. Самодержавие и государственный аппарат для интеллигента более или менее враждебен. Но он не укоренен и в повседневной общественной и хозяйственной жизни, протекающей вне государства. Интеллигент готов не столько служить, сколько перестраивать, а еще лучше проектировать строительство. Поскольку подобное далеко не всегда удается, то он воспринимает свое текущее существование как лишенную настйящего смысла рутину, непреодолимую косность русской жизни. Вплоть до культурной катастрофы 1917 года интеллигенция оставалась питательной средой и носителем революционной в своих основаниях идеологии, сознавая себя наследницей разночинцев-нигилистов 60-х годов.
Появление интеллигенции в России стало следствием ее сближения с Западом, вестернизации русской культуры и вместе с тем того, что Россия так и не стала западной страной в том смысле, в каком западными странами являются Англия, Франция, Германия или Италия. Нерастворимость России в Западе можно трактовать как ее отсталость, можно в этом видеть некоторую инаковость российской западности по отношению к остальному Западу. В любом случае определенная дистанция между Россией и Западом несомненна. Самое же существенное для появления и существования интеллигенции состоит в том, что несовпадение России и Запада обнаруживается и внутри русской культуры: в ней есть собственно Запад и собственно Россия. Ну, скажем, образование и наука не могли быть ничем иным, как чисто западным явлением. Ни в гуманитарных, ни тем более в точных и естественных науках русская школа и университет ничего не могли предложить учащимся, кроме изучения тех же наук и приобретения тех же знаний, что и на Западе. А вот отношения между людьми, способ ведения хозяйства, государственное устройство и t. д. в России существенно отлНчались от западных. В учебных заведениях у нас образовывали людей, как это только и возможно, на западный лад, жизнь, однако, им приходилось выстраивать в стране, слишком своеобразно западной и в то же время не создавшей образования в соответствии со своим своеобразием. Такой разрыв делает массовым явлением отстраненность от собственной страны, ее восприятие, в котором первенствуют критика и отрицание. У русского дворянства вплоть до появления «лишних людей* получение западного образования уравновешивалось сознанием своей причастности стране в качестве некоторого деятельно образующего и выражающего страну начала. Напомним разобранный в предшествующей главе разговор между княгиней Дашковой и князем Кауницем. В этом разговоре княгиня не просто демонстрирует свою неосведомленность касательно русской истории, для нее в то же время органична аристократическая гордость за свою страну. Как бы Дашкова не заблуждалась в критике или превознесении России, отречение и отстраненность от нее для княгини невозможны. Россия и она сама в сознании Дашковой совпадают. У нее едино именно то, что для русского интеллигента, как он оформился в царствование Александра И, противопоставлено. Не то чтобы он не считал себя русским. Не просто считал, но и относился к себе как к соли русской земли. Но интеллигент воспринимал себя не укорененным в жизни своей страны. Как образованный человек, он родом из Запада, а может быть, и вообще ниоткуда. Главное, что интеллигент держал в уме — это то, что прошлое и настоящее России сами по себе, а он — сам по себе, по отношению к ним обязательна дистанция критически мыслящей личности. Если за что и отвечающей, так это только за неспособность воплотить свои возвышенные идеалы в жизнь. Воплощаемое же интеллигент своим признать не готов. Каждый раз оно подлежит критике и отстранению.
Глава 7
КУЛЬТУРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ РОССИИ КОНЕЦ XIX — НАЧАЛО XX ВЕКОВ
Словосочетанием «серебряный век» принято обозначать последний период культуры петербургской России. Само по себе оно указует на некоторую нисходящую ступень развития явления. Очевидно, что серебро — не золото, что оно менее драгоценный металл и, соответственно, и серебряному веку культуры далеко до золотого. Подобного рода логика применительно к русской культуре последних 20-25 лет Петербургского периода, как минимум, нуждается в корректировке. Конечно, достоинство классики, центральной эпохи русской культуры XVIII — начала XX века принадлежит «золотому веку», но и у «серебряного века* были свои преимущества перед предшественником. Во-первых, это преимущество большей утонченности и изощренности. Русская культура шире и глубже осваивает собственную и западную культурную традицию, свободно ощущает себя в ней, ей становятся внятными новые, ранее недоступные смыслы. Так, «серебряный век» вновь открывает для себя находившуюся в пренебрежении и забвении у «золотого века» русскую культуру XVIII века. Именно с подачи деятелей «серебряного века» в кругозор образованного человека вошли творения таких больших художников, как Рокотов, Левицкий и Боровиковский, перестал быть только архаичным Державин и т. д. Лишь с наступлением «серебряного века» русской культуре начинает приоткрываться культура Киевской и Московской Руси. Их архитектура, иконопись, прикладное искусство перестают быть чем-то неведомым и чуждым. Второе преимущество «серебряного века» перед «золотым» состоит в том, что он выразил себя полнее и шире, чем его предшественник, в различных областях культуры. Если вершина «золотого века» — русская словесность, и прежде всего роман, тогда как все остальное в русской культуре, как бы оно ни было значительно, имеет почти исключительно национальное, а не всеевропейское и всемирное значение, то применительно к «серебряному веку» практически невозможно отдать приоритет какой-нибудь одной сфере в русской культуре. По-прежнему остается очень высоким уровень художественной литературы, правда, теперь ее достижения имеют отношение прежде всего к поэзии. Наряду с литературой бурный расцвет переживает драматический и музыкальный театр. Русский театр начала XX века — безусловно явление общеевропейского и общемирового масштаба. Свою некоторую провинциальность преодолевает изобразительное искусство, и в частности живопись. В отличие от перечисленных н ряда других областей культуры русская религиозно-философская мысль «серебряного века» не вышла на европейский уровень. Она сохранила узконациональное значение, так как ее связь с западной философской мыслью оставалась односторонней зависимостью русских мыслителей от своих западных учителей. И все-таки в русской религиозно-философской мысли в начале XX века произошел качественный сдвиг и преобразование. Несмотря на продолжающееся западное влияние, она обрела свою устойчивую тематическую направленность, внутри
| Il |
| 6' |
| llli |
| 2 5 |
| !< |
| a ►? «и О |
-
нее возникла преемственность в разработке философских проблем. Иными словами, русская религиозно-философская мысль «серебряного века» приобрела ранее недостававшую ей способность развития на собственных основаниях. Наконец, третье преимущество «серебряного века* состояло в невиданной ранее в русской культуре интенсивности творческой жизни. «Золотой век» при всех своих достоинствах отличался тем, что в нем существовало очень резко выраженное несоответствие между великими достижениями в данной области культуры и всем остальным, создаваемым в ней. Скажем, в поэзии между произведениями Пушкина, Тютчева, Лермонтова, Баратынского, Фета и всем остальным, созданным другими поэтами, — дистанция огромного размера. Если бы не перечисленные поэты, то ни о каком «золотом веке» в русской поэзии заподозрить невозможно. Такого же разрыва между «вершинами» и «средним уровнем» «серебряный век» не знал. Разумеется, и в нем далеко не все равноценно. Но, обратившись к той же поэзии с целью указать на ее «вершины», мы обнаружим, что их гораздо больше, чем в «золотом веке». Среди них: А. Блок,
A. Белый, И. Анненский, В. Хлебников, В. Маяковский, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М. Цветаева, А. Ахматова, Ф. Сологуб. Я перечислил десять крупнейших поэтов, понятно, что мой список приблизительный, менее всего претендующий на полноту. И не только потому, что в него могут быть с приблизительно равным правом включены еще и Г. Иванов или
B. Ходасевич. Если мы даже и расширим его, все равно «вершины» будут окружены поэтическим ландшафтом, не многим и не резко уступающим им в высоте. Куда, например, — к «вершинам» или к «среднему» уровню — отнести Н. Гумилева, В. Иванова, Э. Багрицкого, Н. Заболоцкого, К. Бальмонта, Н. Клюева и т. д.? Вряд ли на подобный вопрос можно ответить однозначно. Потому именно, что поэзия и далеко не только поэзия «серебряного века» — это какой-то небывалый взрыв творческой энергии, когда творцы первого ряда настолько многочисленны, что называть их великими и гениальными не приходится лишь потому, что эти эпитеты в принципе не допускают широкого употребления, стираясь и девальвируясь от этого.
Необыкновенная и даже небывалая творческая продуктивность «серебряного века» странным образом оставляла его бессильным перед миром политики и идеологии. В этом отношении культура Петербургского периода завершается в ситуации, прямо противоположной тому, что имело место в его начале. Весь XVIII век русская культура в той мере, в которой она была новоевропейской, самым тесным образом была связана с императорским двором и властью. Вначале она насаждалась сверху, потом становилась все более органичной, но и в этом случае ни о какой ее автономии и, тем более, отчужденности от государства не могло быть и речи. Теперь, к началу XX века, русская культура приносит изобильные и разнообразные плоды исходившей от самодержавия ее переориентации на Запад, и в то же время она оказывается в положении пребывания в башне из слоновой кости. Культура «серебряного века» чужда государственным интересам России, безразлична или враждебна к самодержавию, заложившему ее отдаленные предпосылки. Конечно же, речь идет вовсе не о каком-то отсутствии у деятелей «серебряного века» русского патриотизма, озабоченности судьбой России. Другое дело, что те, кто создавал «серебряный век», были прямыми потомками и наследниками «лишних людей» николаевского царствования. Теперь они вовсе не ощущали себя «лишними людьми», скорее таковыми в их глазах выглядели государь и представители власти в Российской империи. На них смотрели как на некоторое архаическое, не отвечающее духу времени явление. Но, с другой стороны, как и когда-то настоящие «лишние люди», деятели «серебряного века» как естественное и единственно возможное воспринимали свое положение людей, от которых в историческом пути России нйчего не зависит. Своим творчеством они этот путь не определяли и не осуществляли. Между тем почва уходила у них из-под ног, так же как и у российского имперского государства. Россия шла к революционной катастрофе, которую равно не могли предотвратить ни культура «серебряного века», ни самодержавное государство. Перспектива была за наследниками нигилистов-
разночинцев о их кавыками политической борьбы и идеологической обработки широких слоев общества.
Очень характерно, что первое поколение творцов «серебряного века» называли декадентами. Декаданс — ото упадок и упадничество в культуре, ощущение надвигающегося ее конца. Такому ощущению не чужды были многие деятели «серебряного века», которые не принадлежали к декадентам. Для них так или иначе было характерно восприятие русской жизни как неподвластной никаким оформляющим и устрояющим ее усилиям. Культура в этом случае превращалась в глазах деятелей «серебряного века» в нечто уязвимое и эфемерное, бессильное подчинить и растворить в себе жизненную стихию. Опять-таки перед нами ситуация, прямо противоположная первому веку Петербургского периода. Тогда культура была уверенно созидательна. Она посягнула на такое непомерное дело, как создание Петербурга, города культуры по преимуществу. В нем природная стихия укрощена, а главное, преобразована в культуру. По выражению упомянутого уже О. Мандельштама, Петербург-Петрополь — «воды и неба брат». Иными словами, он связан и с водной стихией и с космически устрояющим началом неба. С наступлением «серебряного века» в восприятии Петербурга резко преобладают черты его нереальности и призрачности. Как будто подвергаются сомнению итоги двух столетий преобразующих природу усилий культуры. На них смотрят как на не окончательные и подлежащие отмене какой-то неведомой и страшной силой.
Начинался «серебряный век» в самом конце XIX столетия резкой переориентацией русской культуры. Это не был прямой переход от «золота» классицизма к «серебру» последующего периода. Нужно отдавать себе отчет в том, что к концу XIX века заканчивается деятельность почти всех крупнейших представителей «золотого века». Так, в литературе исключение составляет А. П. Чехов. Такая же вершина русской литературы, как JI. Н. Толстой, к концу века отходит от собственно литературного творчества или же создает произведения, позволяющие заподозрить, что он пережил себя. Ситуацию в культуре конца XIX века определяли величины второго и третьего ряда. В их творчестве были явственно ощутимы черты упадка и разложения того, что составило славу «золотого века». Очень сильно сказывалась в русской культуре идущая от разночинцев-шестидесятников идеологизация культуры, от нее требовалось служение общественной пользе, насущным социальным вопросам. По-прежнему тон в культуре задавала литературная критика, которая в строгом смысле слова вовсе не была литературной. Начинаясь еще с В. Г. Белинского и далее в лице Н. А. Добролюбова, Н. Г. Чернышевского, Д. И Писарева, она не столько разбирала и оценивала художественные произведения, сколько на материале текущей литературы занималась общественными вопросами, была явлением скорее общественной мысли, чем литературного процесса. В 60-е годы литературная критика в условиях, пускай и ослабленной, но цензуры, умудрялась стоять на позициях революционного неприятия действительности. К концу века революционаризм сменила более умеренная вера в прогресс и призывы к совершенствованию общественного устроения. Однако в русской культуре сполна продолжало сказываться воздействие на нее идеологии, или, в терминологии той эпохи, «идейности*.
Вообще говоря, в секулярной культуре обязательно должны присутствовать интеллектуальный и художественный пласты. И если последний из них представляет искусство, то первый в высшем его выражении есть философия. В России же, стране, не имевшей на протяжении столетий философской традиции, не создавшей ее и за два века Петербургского периода, филоософия с 30-х годов XIX века была замещена литературной критикой, по существу же — насквозь идеологизированной общественной мыслью. Литературная критика живет интересами дня, она вся в борьбе партий и течений. В результате ей в принципе по возможностям осмысление явлений, имеющее значение только для современников. Строго говоря оно является не столько мыслью, сколько умонастроением, исчезающим вместе с породившей его злобой дня. Самый талантливый из русских литературных критиков — Белинский еще имел достаточное чутье, чтобы отдать должное некоторым из великих писателей
«золотого века». Его преемники, даже восхвалявшие классиков «золотого века», слишком часто действовали подобно М. Е. Салтыкову-Щедрину. У него после разбора крупнейшего из русских романов «Войны и мира» только и нашлось похвалы Л. Н. Толстому в таких словах: «А вот так называемое высшее общество граф лихо прохватил». Слишком очевидно, что подобные похвалы ничем не лучше, а скорее всего, и опаснее, любой хулы. Они нивелируют великие творения до уровня интересов дня, очень наглядно демонстрируя этим полное несоответствие интеллектуальной и художественной составляющих культуры, то до какой степени первая из них уступает второй.
Отмеченное противоречие в русской культуре к концу XIX века, в частности, выражалось в том, что она создавалась как бы в неведении о себе. Совершенно неясными оставались масштабы скажем, Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Почитаешь раэборы их сочинений критиками от Д. И. Писарева до Н. К. Михайловского, и окажется, что это крупные художники, но мало ли их в русской литературе. И уже совсем не возникнет подозрения о том, что если у немцев есть И. В. Гете, у англичан — В. Шекспир, а у итальянцев — Данте Алигьери, то у русских — Толстой и Достоевский. Все здесь ставит на свои места только «серебряный век». И в первую очередь за счет того, что его представители пытались не идеологизировать по поводу произведений Толстого и Достоевского, а быть в отношении к ним философичными. Не увидеть в них злобу дня с его заботами и увлечениями, а ввести великих художников во всемирно-исторический контекст. Чтобы ощутить всю разительную разницу между «серебряным веком» и предшествующим ему периодом, достаточно обратиться к книгам В. В. Розанова «Легенда о великом Инквизиторе Ф. М. Достоевского» и Д. С. Мережковского «Л. Толстой и Достоевский». В них следа не осталось от журнальной полемики по текущим вопросам. Но зато появилось ранее немыслимое рассмотрение религиозных исканий двух великих художников в качестве важнейшего момента литературного творчества. К книгам Розанова и Мережковского предъявлялось множество претензий по части их философичности, глубины и последовательности мысли. Несомненным остается одно: с литературной критикой, а значит, и с идеологией разночинцев-нигилистов, определявших собой интеллектуальную составляющую русской культуры, было покончено. В этом прямая заслуга «серебряного века».
Правда, у этой заслуги есть и своя оборотная сторона. На смену утилитарному и общественному духу разночинцев-нигилистов у их последователей в русской культуре вовсе не пришел глубокий и вместе с тем трезвый интеллектуализм, выражающий себя в науке и философии. Плоское и внутренне страшно бедное мировоззрение шестидесятников, в своей основе сохранившееся в качестве господствующего вплоть до «серебряного века», сменилось с его наступлением неопределенно-мистическим умонастроением. Теперь преобладали религиозные искания вне обретения Бога, увлечение оккультизмом, попытки подойти к художественному творчеству как мистическому действию и т. п. В целом для «серебряного века* характерно понимание ограниченности и тупиков секулярной культуры. Он жаждал обновления на религиозной почве. В этом отношении русский «серебряный век* обнаруживает существенное сходство со своим отдаленным предшественником — романтизмом. Точно так же как некогда романтики, творцы «серебряного века» были устремлены к Богу, предварительно потеряв всякую живую связь с Ним. Они в очередной раз стремились обрести Бога, при этом не понимая, какие пути для этого приемлемы, а какие заказаны. Практически все крупные художники и мыслители той эпохи подписались бы под словами одного из своих видных представителей Л. Шестова, которыми он заключил одну из своих книг: «Нужно искать Бога». Но очень немногих из них поиск привел к обретению. Вслед за романтиками деятели «серебряного века» были заворожены тем таинственным «неясным и нерешенным», что им преподносила жизнь. Таинственное даже специально культивировалось и форсировалось. Оно влекло как таковое, при этом было не так уж важно, видели в нем божественное или демоническое. Метафора «серебряный век» применительно к культуре конца XIX —
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 448;
