КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 68 страница
XVIII века, безупречно храбрые, самоотверженно служащие отечеству, «в просвещении стоящие с веком наравне», как-то скисали и возвращались душой к допетровским временам в отношениях с выше и ниже стоящими. Перед первыми они искренне раболепствовали и заискивали, уподобляясь малым детям, во вторых же сами видели некоторое подобие малых детей. Показательным, хотя и не самым ярким примером отношений младшего по положению к старшему могут служить письменные обращения А. В. Суворова к своему непосредственному начальнику Г. А. Потемкину. Представим себе: один из них в это время — гёнерал-аншеф и граф, другой — генерал-фельдмаршал и светлейший князь, один командует армией, другой возглавляет военную коллегию, то есть всю российскую армию, один очень богат, другой богат сказочно. Короче, оба аристократы и должностные лица самого высокого ранга. Итак, А. В. Суворов пишет письмо Г. А. Потемкину, цитируем
только обращение одного из писем: «Батюшка князь Григорий Александрович! Нижайше благодарю Вашу Светлость за милостивое Ваше письмо... Ваш наипреданнейший вечно. Целую Ваши руки.
С наступающим новым годом Вашу Светлость всенижайше поздравляю. Припадаю к коленям».[134] *
Повторим, ничего особенного, своего в письме Суворова к Потемкину нет. Одни, причем не самые сильные и далеко не форсированные формулы вежливости. Между тем, как умаляется Суворов, как низко себя ставит перед человеком, который всего-то на один ранг выше его! По существу, они не столько подчиненный и начальник, сколько соратники, делающие одно великое дело, завоевывающие славу России и, кстати говоря, друг другу симпатизирующие и отдающие должное. Попробуй понять это из обращений письма. Стандартные формулы вежливости допускали только создание образов покорного сына и слуги на одном полюсе и батюшки и милостивца — на другом. Никуда от принятого тона Суворову было не уйти. О другом он и не знал, к другому не привык и оставался здесь вполне русским человеком времен Московского царства, для которого нет чести и достоинства, предполагающих принципиальное равенство людей одного аристократического круга. На Западе подобное было само собой разумеющимся, в России же оформилось только к началу XIX века.
То обстоятельство, что в Петербургский период русская культура резко сближалась о западной и становилась по типу новоевропейской культурой, означало ее неизбежную и стремительную секуляризацию. Видимо, невозможно со всей однозначной определенностью ответить на вопрос о том, способствовала ли начавшаяся еще в Московской Руси секуляризация культуры ее обращению к Западу или, наоборот, сближение с Западом вело к секуляризации. Скорее всего, имело место и то и другое: зарождавшиеся секулярные тенденции делали Русь более восприимчивой к западным влияниям, те же, в свою очередь, вели к более последовательному и радикальному процессу секуляризации. А он действительно отличался радикализмом, причем нередко в его предельных формах. Об этом уже цитировавшийся В. В. Розанов писал следующее: «От споров о “двугубой и трегубой аллилуйя’- русский без всякой ступени, без всего промежуточного переходил к атеизму. Уже через 50 лет после того, как Аввакум сгорел в деревянном срубе, у нас появляются в XVIII веке полные атеисты. Народ наш и общество или волновались около «аллилуйя», или не верили вовсе ни во что».[135]Мысль Розанова предельно заострена, она фиксирует крайности и полярности религиозной ситуации XVII и XVIII веков. Тем не менее в ней выражено главное: интеллектуальная беспомощность русского православия в XVII веке делала невозможным для него противостояние секуляризации в ее крайних формах. Начиная с петровских реформ секуляризация шла полным ходом, оттесняя православие на периферию культурной жизни. На поверхности в России и на Западе Церковь одинаково находилась в положении обороняющейся стороны, и тут, и там торжествовало Просвещение, для которого христианское вероучение и, тем более, богослужение — это предрассудок, если не прямой обман верующих. Однако западная Церковь, Католическая и, в особенности, протестантская конфессии оставались «с веком наравне». Торжествующему духу Просвещения она, как могла, противопоставляла свои доктрины и свою проповедь, свою систему образования и воспитания. В России произошло другое. Православие в значительной степени осталось в допетровской эпохе. Скажем, фигура священника или монаха за редкими исключениями несла в себе черты простонародности, сближаясь с крестьянином, купцом, мещанином. Церковь и духовенство сохраняли власть над умами прежде всего низших и необразованных сословий и слоев. Что касается просвещенной части дворянства, «русских европейцев», то их связь с православием часто была поверхностно-
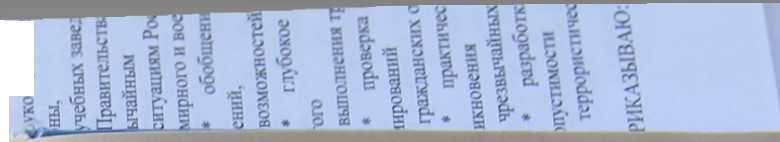
|

обрядовой, к нему относились снисходительно-терпимо и не более. Государство смотрело на православие исключительно под углом зрения собственных интересов.
Тон здесь задал Петр I. Для него Церковь на свой манер должна была также служить государству (царю и отечеству), как, например, армия и чиновничество. Священник и монах, по существу, были для первого русского императора теми же чиновниками со своими особыми обязанностями. Обязанности эти, согласно Петру, простирались так далеко, что священнику вменялось им в обязанность даже нарушение тайны исповеди, если ее содержание каким-то образом представляло интерес для государства. Посягая на исповедь, Петр I тем самым стремился подчинить себе как государю самое сокровенное в жизни Церкви — ее таинства, ей не оставлялось никакой самостоятельности по отношению к государству. С наибольшей, можно сказать скандальной, откровенностью подчинение Церкви государству проявилось в учреждении Петром I Священного Синода в качестве высшего органа церковного управления и, соответственно, в упразднении патриаршества. Император упразднил патриаршество, не считаясь ни с какими канонами Православной Церкви, к которой формально принадлежал. Он совершил в православии невиданное и, казалось, невозможное — поставил во главе церковного управления гражданского чиновника — обер-прокурора Св. Синода. На этой должности за два столетия кто только не перебывал. Николай I ухитрился даже назначить обер-прокурором Синода командира лейб-гвардии гусарского полка. К тому времени в этом не было ничего особенного, так как общество давно привыкло, что Церковь должна верой и правдой служить государству. При этом возникла странная и не сообразная ни с чем ситуация. Как православный, русский царь должен был ощущать себя рабом Божи- им и служить Православной Церкви, служение, однако, оборачивалось тем, что Церковь безусловно подчинялась царю н даже его чиновникам. В этом моменте лишний раз проявляется все различие между секуляризацией культуры на Западе и в России. У нас она не привела к переориентации Церкви на новые жизненные реалии, с целью выполнения своей миссии в изменившемся мире. Оттесненная на периферию секулярной культуры. Церковь осталась в значительной степени вне ритмов культурного развития Петербургской России. Сама же новая культура тем самым оказалась слишком слабо связанной не только со своим «низом* — почвой народной культуры, но и с «верхом* — сверхкультурой православия.
Жизненным центром русской культуры XVIII века становится вначале царский, а потом императорский двор. Если в это время вся русская культура и не носила придворный характер, то решающее влияние двора прямо сказывалось на всей дворянской культуре, а косвенно и на культуре остальных сословий. Нужно сказать, что тенденция к повышению роли дворов государей в развитии культуры проявилась на Западе повсеместно еще в XVII веке. Особенно она давала о себе знать во Франции, в период правления Людовика XIV (1661- 1715). Так или иначе с королевским двором в это время связаны почти все важнейшие явления французской культуры. XVIII век — век Просвещения, как раз характеризуется тем, что наряду с придворной очень внятно и решительно заявляет о себе культура, несущая в себе буржуазные элементы или прямо буржуазная по духу. Ее деятели вовсе не обязательно буржуа, они могут быть даже приближены ко двору, как это, например, неоднократно имело место с Вольтером. Но очень важным моментом здесь является то, что культура Просвещения создавалась не при дворах, в ней нет ничего придворного. И если царственные особы стремились приблизить к себе деятелей Просвещения, то именно в стремлении не отстать от века. Теперь они не задавали тон, а вольно или невольно подчинялись не от их дворов исходящим веяниям.
На подобном фоне русская культура XVIII века выглядит достаточно неожиданной и странной. В предшествующем веке никакой придворной культуры в России не существовало. При дворе было определяющим «древлее благочестие*. Русские цари держали себя подчеркнуто церковно и благолепно. Ежедневно посещали церковные службы и подолгу присутствовали на них. Непременно обязательным было участие во всех крупных церковных праздниках.
в поездках в более или менее отдаленные монастыри на богомолье. Светские элементы хотя и наличествовали при московском дворе, но имели подчиненное значение. Светским царский двор стремительно становится при Петре I. В нем вводятся западные обыкновения церемонии, этикет, придворные чины, одежды и т. п. Между тем российский двор остается в огромной степени чуждым окружающему его миру все еще московской по своему характеру Руси. Для двора, который был центром власти, стояла задача преобразовать всю Россию по западному образцу. В отношении культуры это значило вывести всю страну из Позднего Средневековья прямо в Просвещение. Так что в нашей стране возникла совершенно немыслимая более нигде ситуация, когда ростки Просвещения исходили именно от двора. Именно двор предпринимал усилия к внедрению в русскую культуру тех начал, на которых основывалось Просвещение. На Западе, скажем, государям не было особой необходимости открывать в своих государствах университеты и школы, тем преобразуя культуру. Они и так существовали, и в не малом количестве. Конечно, покровительство двора наукам и искусствам на Западе и в XVIII веке никогда не было лишним, но оно не определяло собой ситуацию в культуре. У нас ситуация была иной. Многое необходимо было создавать заново и, заниматься этим, кроме самодержавного монарха и его окружения, было некому. Вот самодержавие, абсолютная монархия и выступали в России XVIII века в роли главного просветителя своей страны. То, что для западных стран оставалось благопожеланием просветителей, их мечтой о просвещенном монархе, властно и стремительно вводящем в своей стране Просвещение, было для России жесткой необходимостью. Сами монархи, как, скажем, императрица Елизавета Петровна, могли быть не слишком образованы, менее всего относиться к числу ценителей искусств и наук. И все же политика, которую они санкционировали, действовала в сторону возникновения и развития русского Просвещения. Все-таки государству были совершенно необходимы образованные чиновники и офицеры, без них его существование становилось невозможным. Образовывать их в XVIII веке иначе, чем в духе Просвещения, было немыслимо. Образованные же люди, обладавшие дарованиями, естественным образом стремились себя выразить, становясь тем самым уже не просто выучениками, но и деятелями русского Просвещения.
Их появление при том, что оно немыслимо без просветительских усилий самодержавия, не могло рано или поздно не вступить в противоречие и даже конфликт с ним. Хрестоматийный пример тому — деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева. Образованные в духе Просвещения, горячо преданные его идеалам, самой своей деятельностью, своими произведениями, они не могли не поставить под вопрос самодержавие. Одно дело, когда Екатерина II в переписке со столпами Просвещения на Западе изображала из себя просвещенную государыню, устрояющую свою, пока еще полуварварскую страну, на началах разумности. В этом случае она принимала на себя роль просветительницы. И совсем другое дело— соотнесенность ее с просветителями в собственной стране. С людьми, кто знает положение в России вовсе не из французского далека и которые в соответствии с собственным разумом оценивают окружающую реальность и пытаются предпринимать собственные, от себя исходящие просветительские усилия. Тут наступает момент, когда различным просветителям, с одной стороны, императрице Екатерине II, с другой же — Новикову и Радищеву, уже не ужиться друг с другом. Пока просветительницей выступает государыня, все остальные в ее империи должны выступать в роли просвещаемых или, в крайнем случае, исполнителями воли просветительницы. Таких правил игры западное Просвещение не создавало. Его вожди видели себя не менее, чем советниками монархов, независимыми от них, скорее относящимся к монархам как к своим друзьям, в чем-то, может быть, даже орудиям, но совсем не готовых стать слугами и исполнителями. Подобное, вовсе не для тех, кому открыт свет естественного разума. Но тогда Екатерине II становится не по пути с выучениками насаждавшегося, в том числе ею самой, западного Просвещения. Просветительной миссии самодержавия и двора пора заканчиваться.
Невозможно переоценить роль двора в России XVIII века в качестве движущей силы и образца для всей русской культуры. По этому пункту Россия оставила далеко позади даже Францию века Людовика XIV. Для нее двор был всем. От него не только исходила мода, этикет и образцы светского общежития. Если мы обратимся ко всему, что было создано в XVIII веке действительно заслуживающего внимания потомков, нам невозможно будет отвлечься от связи культуры со двором. Лучшие памятники архитектуры — это царские дворцы или сооружаемые по прямому распоряжению коронованных особ общественные и даже церковные здания. Под их прямым влиянием или же теми самыми архитекторами во вторую очередь строились здания для русских вельмож и даже тех, кто ко двору не принадлежал. Русская живопись конца XVIII века — это прежде всего творчество трех великих художников Рокотова, Левицкого, Боровиковского. Все они портретисты. И портреты, создаваемые ими, заказывались, в первую очередь, императрицей и ее придворными. Русская музыка, создававшаяся также в конце XVIII века, связана с двором еще более тесно, чем живопись. Придворными композиторами были два ее крупнейших представителя — Борт- нянекий и Березовский. Известные и знаменитые у современников русские литераторы не все имели прямое отношение ко двору. Но вовсе не потому, что они его чуждались. Как раз наоборот, ко двору и государям литераторы в соответствующих случаях считали необходимостью обращаться с одами и другими стихотворными посланиями. Сегодня в подобной обращенности легко заподозрить корысть и низкопоклонство. Конечно же, очень часто дело не обходилось без греха. Но все сводить к нему у нас нет никаких оснований. А вот напомнить один достаточно известный факт русской литературной жизни XVIII века будет уместно. В 1782 году первый действительно великий русский поэт Г. Р. Державин посвятил Екатерине II свою ставшую знаменитой оду «Фелица». К тому времени дело это было обычное, так же как обычными были восхваление мудрости, милосердия, скромности, справедливости, терпимости и прочих добродетелей императрицы. Ода очень понравилась Екатерине II, за нее Державин был отмечен высочайшим подарком и благоволением. Похоже, что ода благотворно сказалась и на служебной карьере Державина. Удивительно, однако, другое — «Фелица», несмотря ни на что прекрасное стихотворение, ставшее заметной вехой в литературной жизни России, а не только в поэзии. Литературоведческий анализ «Фелицы» не наша задача. Поэтому, обратив внимание читателя на ее особый лиризм и задушевность, интерес к действительным особенностям характера и образа жизни Екатерины, выраженные с подлинным поэтическим мастерством, нельзя не отметить и другого. Не будь Екатерина П такой, как она была, всякая поэтичность осталась бы оде чужда. Если бы, конечно, в ней не проявился какой-нибудь зловеще-демонический гротеск. Императрица действительно вдохновила одописца Державина на поэтическое творение. В ней было то, что задевало поэта и пробуждало его Муз у. Читатель вправе возразить мне: «А если бы Екатерина II в силу своей человеческой незначительности была не в состоянии вдохновить Державина на поэтическое послание к ней, почему бы поэту не адресовать его действительно достойной оды женщине?» Ответ на этот гипотетический вопрос состоит в том, что поэтам в России XVIII века до Державина не по силам и не с руки было создавать действительно поэтические произведения чисто интимного свойства. Поэты все больше воспевали высокие предметы и «бряцали на лире». В соответствии с установившейся традицией взялся «бряцать* и Державин. И тут оказалось, что его творения, оставаясь всецело придворной поэзией, открыли ей новые горизонты, которые со временем далеко уведут ее от всякой придворности. Пока же поэзии двора было не миновать. Он оставался пространством высокой культуры, за его рамки выходить было невозможно и ненужно. И не только поэзии, но, скажем и изобразительному искусству. В отношении последнего не могу удержаться от еще одного примера, вводящего нас в самое существо культурной ситуации ХУП1 века.
В Русском музее, взалах, посвященных XVIIIвеку, едва ли не всоседних залах можно увидеть две сходные по масштабам и предназначению статуи русских императриц. Одна из
них представляет собой изображение Анны Иоанновны, другая, опять-таки, Екатерины. Обе статуи бронзовые, они только и могли быть официальным и парадным изображением. Но какая, однако, грандиозная между ними разница. Анна Иоанновна, несмотря ни на какие императорские регалии и роскошное одеяние, представляет собой может быть и не ворону в павлиньих перьях, но уж во всяком случае некоторое подобие истукана. Лицо у нее пусто, холодио и безжизненно. Царственного величия в ней нет и следа, человечность же выжжена и выморожена непомерным для простой, незатейливой натуры саном. Взглянуть на Екатерину II после Анны Иоанновны — буквально обрести отдохновение для глаз. Во всем ее облике разлиты мягкость и изящество. Перед нами живая женская душа, несмотря на свою женственность, не чуждая ненавязчивого и неподавляющего величия. Представим теперь двух придворных скульпторов, которые изначально раз и навсегда усвоили себе, что их дело — ваять великих мира сего: государей и полководцев. Но в таком случае, разве они не зависят напрямую от своих заказчиков, разве их вдохновение не питается теми, кого скульптуры изображают? Каковы государи, таковы и скульптуры, можно сказать с таким же правом, как и прямо противоположное: «Скульптуры таковы, каков скульптор». Для нас, впрочем, достаточно констатировать то, что придворный характер, заданный монументальной скульптуре, — это никакое не внешнее принуждение. Это ее в XVIII веке единственно возможный путь. Поэтому придворность не отрицает и не умаляет здесь искусство скульптора, как она не умаляла и не отрицала поэзии, она определяет их характер и тип, содержание и существо творчества художников.
Глава 6
КУЛЬТУРА ПЕТЕРБУРГСКОЙ РОССИИ
XIX ВЕК
Завершение в русской культуре Петербургского периода века культурного ученичества совпадает приблизительно с началом XIX века и, следовательно, с царствованием императора Александра I (1801-1825). «Александров век» — это уже «золотой век* русской культуры и, видимо, лучшее его время. Сказанное может показаться странным, так как только после 1825 года русская культура достигла наиболее впечатляющих результатов в таких ее областях, как литература, живопись, музыка, общественная мысль, наука, образование и т. д. Действительно, если иметь в виду результаты, то есть произведения и памятники культуры, то первая четверть XIX века — лишь преддверие, в лучшем случае самое начало «золотого века*. Ведь в это время творили Карамзин, Жуковский, Батюшков, имена в нашей словесности очень почтенные, но впереди-то было творчество зрелого Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова. Еще менее в пользу начала XIX века будет сопоставление в других областях культуры. И все-таки есть и другие факты и аргументы, они работают как раз на начало века. Один из них касается «Войны и мира», наверное, самого «главного» романа «золотого века» русской литературы, наиболее сильно и ярко выразившего собой всю культуру своей эпохи. «Войну и мир* нередко называли нашим национальным эпосом, памятуя как его стилистику, так и предмет изображения. Конечно, о «Войне и мире* в качестве эпоса можно говорить условно и метафорически, по причастности произведения Л. Н. Толстого эпическому началу, а не полноте и последовательности его выявленности. Все-таки «Война и мир* — это роман. Но роднит его с эпосом обращенность к своего рода «правремени» русской новоевропейской культуры. В настоящем эпосе правремя понимается буквально, как период жизни полубогов-героев, наступающий за космогонией, космическим
устроением и доустроением бытия. Понятно, что ни о каком правремени применительно к XIX веку буквально говорить не приходится. И все-таки для Толстого, и далеко не для него одного, некоторым подобием правремени была первая четверть XIX века. В результате «Война и мир» начинается сценой, происходившей в 1805 году. Никакой случайности, про- извола или исключительно личных предпочтений автора здесь нет. Такой роман, какой замыслил Толстой, мог быть посвящен только тому времени, о котором повествуется в «Войне и мире». Для Толстого это было время «отцов», людей предшествующего поколения. Минимально необходимая временная дистанция, характерная для эпоса, в романе присутствует. Но можно с уверенностью утверждать, что большей она быть не могла, потому что никакое другое время не смогло бы захватить Толстого так, как начало XIX века. В нем для автора присутствовало нечто неотразимо привлекательное и вместе с тем ушедшее в прошлое, в нем он видит Россию в целом, а не только отдельных русских людей, Россию в «ее минуты роковые», когда внятно ощутим ход истории и вплетенность в нее каждой человеческой жизни. Следующая попытка Толстого создать нечто подобное «Войне и миру» по эпическому размаху, но на материале другой исторической эпохи не продвинулась дальше первых эпизодов. Иначе и быть не могло, так как лишь первая четверть XIX века рождала в душе автора тот отклик, который необходим для написания романа-эпопеи. Что же делало «Александров век» тем правременем, которое даже «золотой век» нашей культуры воспринимал с восхищением и вместе с тем с ностальгическим чувством?
Коротко говоря, в человеке начала XIX века все последующие поколения при обращении к прошлому впервые начинали узнавать самих себя. В это время на нашей почве возникает личность новоевропейского типа. У нас нет при ее восприятии той же дистанции, что по отношению к людям XVIII века и, тем более, более отдаленных веков. Человек начала
XIX века говорит практически на том же языке, что и ныне, его одежда, прическа, быт, при всем отличии от наших, уже не экзотичны и не противопоставлены нам своей несовместимостью с нами. В «Александров век» новоевропейская культура не просто началась, а впервые состоялась, это эпоха ее первого целостного выражения. Дальше она будет развиваться вширь и вглубь, но той же целостности у русской новоевропейской культуры уже не будет. Прежде всего в ней не появятся более такие же цельные люди, как в начале XIX века. Они очевидным образом проигрывают своим потомкам в значимости того, что ими предметно выражено в произведениях и памятниках. Но проживали свои жизни люди культуры «Александрова века» на зависть последующим поколениям. Они, а не их потомки так задели Толстого, что он создал о них свой роман-эпос «Война и мир». Спросим себя, кем были те из них, кто в наибольшей степени состоялся? Ответ окажется не так прост. Скажем, Д. В. Давыдов называл себя поэтом-партизаном. Да, он им был, но был еще гусарским офицером (и блестящим гвардейцем, и забубенным армейцем), далее — военным писателем, наконец, рачительным помещиком Пензенской губернии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или еще один только пример. Князь С. Г. Волконский. Он известен прежде всего по своему участию в движении декабристов и последующей ссылкой в Сибирь. Между тем в начале
XIX века среди золотой аристократической молодежи России не было, наверное, человека, у которого все так сходилось к его пользе. Князь самого знатного, какой только можно пожелать, рода. Богат. Сын и брат генерал-адъютантов. Внук генерал-фельдмаршала и брат жены начальника Главного штаба. Сам генерал-майор в 25 лет. Украшен боевыми орденами за участие в главных сражениях войн с Наполеоном. Хорош собой и женат на красавице из знаменитой семьи Раевских. Перечень можно было бы продолжать и нам, и самому Сергею Григорьевичу своей биографией. Он, однако, обрывает ее гарантированное великолепие вначале неудовольствием Александра I своим вольномыслием и предполагаемым участием в тайных обществах. Затем наступает 14 декабря 1825 года, неудачное восстание, следствие по делу декабристов и приговор Волконскому по первому разряду. За ним последовали каторжные рудники, тюрьма и приезд жены, сибирская ссылка, и только в 1856 году, когда князю

|
было уже 68 лет, возвращение в европейскую Россию. С. Г. Болконский не был чем-то одарен в выдающейся или исключительной степени. Но многие ли из куда более одаренных людей прожили такую богатую жизнь, все в ней повидали и испытали, все, что в человеческих силах, так достойно выдержали и ничем себя не запятнали?
С неповторимым своеобразием русской культуры начала XIX века, состоящим в том, что в ее центре — не столько произведения и результаты человеческой деятельности, сколько сам человек, связан наш интерес к Пушкину. Пушкин — единственный человек из великих деятелей «золотого века* русской культуры, о котором ученые-исследователи, а за ними и достаточно широкие слои образованной публики хотят знать все. Не только каждую написанную им строчку, но и каждый эпизод недолгой пушкинской жизни, все обстоятельства, прямо или косвенно указывающие на Пушкина. Подразумевается, что такой исключительный интерес к Пушкину, интерес, несопоставимый с интересом даже к таким великим писателям, как JI. Толстой и Ф. Достоевский, проистекает из исключительной его значимости для русской литературы и культуры в целом. Думаю, что дело здесь еще и в том, что Пушкин, при всей своей ни с кем несравнимости, был сыном своего времени, то есть выразителем духа начала XIX века. Этот дух существовал и выражался и помимо Пушкина. Мы не всегда это в полной мере сознаем, принимая за свой интерес к пушкинскому творчеству, и особенно его биографии, восхищение всем «Александровым веком». Пушкин для нас центрирует его своей личностью. Но не случайно пушкинисты так часто очень сильно отвлекаются от Пушкина и погружаются в его эпоху, которая увлекает их сама по себе.
Вслед за ними увлекает нас и то, что в начале XIX века в России появилось поколение дворян, которые были, наконец, достаточно образованны по европейским меркам, пламенно любили свое отечество, служили ему на гражданской, чаще же на военной службе и в то же время представляли собой светских людей со всеми достоинствами светского воспитания. Они же были не чужды ученым досугам и занятиям литературой и искусством. От последующих поколений поколение «Александрова века» отличает отсутствие у его представителей разочарованности в жизни. Как раз наоборот, они находятся в самой ее гуще, ощущая свою причастность совершающейся истории. Человек культуры начала XIX века стремится обрести себе достойное поприще на государственной службе, воспринимает ее как служение. Но это не служение сухой сосредоточенности и мрачноватого самоотречения. Каким-то образом присутствует ощущение жизни как пира, она захватывает и влечет, несмотря на случающиеся неудачи и срывы. Если сопоставить поколение начала XIX века с предшествующими поколениями, то главным и решительным отличием от них будет то, что по завершении переходного XVIII века в России появляется человек индивидуального достоинства и чести, внутренне независимый и вовсе не склонный оставлять свою независимость «тайной свободой». Наиболее впечатляющим и эффектным выражением происшедшего изменения стало распространение в русской дворянской среде дуэлей. Первые дуэли в России зафиксированы едва ли не с петровских времен. В царствование Екатерины II они уже не были исключением, но только к началу XIX века дуэль стала явлением культуры, по крайней мере тем, что связано с ней и ее собой выражает. Во все времена хватало голосов, осуждавших дуэли за жестокость и бессмыслицу. Действительно, они и жестоки, и противоречат здравому смыслу. Подчеркнем, не всякому, но именно здравому смыслу обыденного сознания. За пределами же здравого смысла смысл дуэли состоит в том, что данная личность бесконечно высоко ставит свое достоинство и всякую попытку посягательства на него готова пресечь ценой собственной жизни. В дуэли важен вовсе не принцип голой силы, если бы это было так, она ничем бы не отличалась от драки. Дуэль в конечном счете требует не победы правого и поражения виноватого. При всей желательности первого, в ней важнее способность пойти на испытание и не дрогнув выдержать его независимо от победы или поражения. Выдержанное испытание, а оно предполагает мужество, хладнокровие и, между прочим, безупречную взаимную вежливость участников поединка, и подтверждает достоинство и честь дуэлянтов. Возникшая между
ними ссора превращается в досадное недоразумение, не нанесшее урона репутации ни одной из сторон.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 578;
