КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 65 страница
Очевидно, что культура Киевской Руси отличалась от современной ей средневековой культуры несравненно большей степенью внутренней однородности. В значительной степени она оставалась христианизированной народной культурой, в которой между церковным «верхом» и фольклорным «низом» практически не было «середины» — культуры воинского сословия и горожан. Как раз тех слоев, чья культура, получая развитие, тяготеет к индиви- дуальшьличностному начблу. Понятно поэтому, что это начало в нашей культуре получило несравненно меньшее развитие, чем на Западе.
Глава 4 КУЛЬТУРА МОСКОВСКОЙ РУСИ
Московская Русь связана с предшествующей ей Киевской Русью самыми тесными узами. В сознании русских людей времен Московской Руси никогда не возникало представления
о какой-то дистанции между Московской и Киевской Русью. В Московии продолжала пра- вить все та же династия Рюриковичей, во Владимир, а затем и в Москву перебирается из Киева общерусский митрополит. Особенно же характерно то, что в фольклорном восприятии Киев остается «матерью русских городов», а князь Владимир своим русским князем, эпическим «Владимиром Красно Солнышко*. Слишком многое с непреложной убедительностью говорит в пользу того, что московский период был эпохой развития единой русской культуры, у которой было еще две — предшествующая и последующая — эпохи. И тем не менее между Московской и Киевской Русью налицо очень существенные различия. Они бросаются в глаза уже при чисто внешнем сопоставлении. Киевской мы называем Русь между концом IX и первой третью Х1П века вовсе не потому, что Киев непрерывно играл в ней безусловно доминирующую роль. Во-первых, с самого начала Киевской Руси давало знать существование у нее второго, гораздо менее значимого и все же ощутимого центра — Новгорода. И, во- вторых, начиная со второй половины XI века все более дают о себе знать местные центры древнерусской культуры: Галич, Полоцк, Чернигов, Владимир, Рязань и т. д. Обращение к Московской Руси обнаруживает прямо противоположную тенденцию. Она всем хорошо известна как собирание московскими князьями Руси вокруг Москвы. После татаро-монгольского нашествия Москва соперничала и с Владимиром, и с Нижним Новгородом, и с Тверью, и с Новгородом Великим. Каждый раз соперничество заканчивалось одним и тем же — подчинением местного центра Москве. Причем подчинение не было только политическим. Одновременно с расширением Московского княжества и его все большей централизацией происходила и унификация культуры. Скажем, в XIV-XV веках своеобразие Новгорода, Пскова, Твери в качестве особых, со своими уникальными чертами, культурных центров выражено очень внятно. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к местной иконе, архитектуре, летописанию. Между тем присоединение различных земель и княжеств к Московскому княжеству достаточно быстро приводило к тому, что их культура приобретала московские черты. В этих случаях влияние Москвы могло быть естественным и органичным, но могло быть и результатом насильственных действий из центра. К примеру, новгородский дух в русской культуре, складывавшееся столетиями новгородское своеобразие были буквально выкорчеваны Москвою. Меры здесь были решительными и очень крутыми. В частности, при Иване III они состояли в массовом выселении в глубь Московского княжества сотен семей новгородских бояр и менее крупных землевладельцев и, соответственно, поселении в новгородских землях московских дворян. В результате Москва не только получила надежную опору в лице правящего сословия вновь присоединенных земель, но и прервала естественный ход развития новгородской культуры.
К концу XV века Московская Русь становится московской именно в том смысле, что ее центр играет в ней роль даже отдаленно несопоставимую с ролью каких-либо других городов страны. Все импульсы государственной жизни исходят из Москвы или направлены к ней. Сходная ситуация сложилась и в культуре. В начале XVI века в Московской Руси оформляется представление о Москве как третьем Риме. Этим подводится предварительный итог возвышения Москвы и фиксируется признание ее исключительного положения уже не только в русской, но и мировой истории. Впоследствии, в XIX и XX веках, тезис о Москве — третьем Риме слишком легко и поспешно Истолковывался как свидетельство имперских агрессивно-милитаристских устремлений Московского царства, которые у нее впоследствии переняла петербургская Россия. В действительности же провозглашение Москвы третьим Римом имело совсем другие направленность и контекст. После падения Константинополя православный мир потерял свой духовный центр. Русь все больше ощущала себя не православной страной в ряду других православных стран, а православным миром как таковым, Святой Русью в окружении иноверцев. В народном эпическом сознании это обстоятельство зафиксировалось таким образом, что Русь, русская земля, отождествлялась с землей вообще.
В мире только и существуют «высота поднебесная», «окиян-море», горы и земля. Последняя
и есть Святая Русь. Представляет же собой она не просто территорию расселения русского народа, а космически устроенную и освященную землю, куда входят все святые места право- славного мира. По отношению именно к такому миру в XVI веке Москва берет на себя роль третьего Рима. Если его не существует, то нет тогда и мира Божия, повсюду находится один только антимир схизматиков и бусурман. Ведь Рим удостоверял своим существованием лад и строй православной жизни, он играл роль некоторого подобия исконно первобытного пупа земли, центрируя собой пространство своего в отличие от пространства чужого. Поэтому совсем не до агрессии было Московскому государству, когда Москва провозгласила себя третьим Римом. Сделано это было от нужды и потребности утвердить свое существование, а вовсе не в перспективе безудержной экспансии. Учтем здесь и тот момент, что с падением православного Нового Рима — Константинополя Ветхий Рим католиков оставался единственным Римом христианского мира. Противопоставить ему свой православный Рим было жизненно важным.
Образ Рима, как он закрепился в сознании европейского человечества, всегда был образом мировой, вселенской столицы. В него вели все дороги, от него же исходили величие, блеск и великолепие светской власти, благочестие и учительство властей духовных. Понятно, что Москва, выдвинув свою претензию на «римскость», способна была реализовать ее лишь в очень ограниченной степени. Как-никак, «новейший Рим» находился в окружении дремучих лесов и болот северо-восточной окраины Европы. Для западного человека Московия оставалась варварской страной, смутно отличимой от страшных, уже чисто мифологически воспринимаемых татар. Конечно, Московская Русь варварской вовсе не была, своеобразие же ее по отношению к остальному Западу выражено было очень ярко. Состояло оно в том, что тенденция к однородности русской культуры, присущая Киевской Руси, в Московский период проявила себя с еще большей последовательностью. В предшествующей главе уже не раз шла речь о том, что культурная однородность Руси базировалась на ее крестьянскости. В Московской Руси в той или иной степени окрестьянены были все сословия, помимо крестьянского: и горожане, и духовенство, и воины-землевладельцы. Не был исключением и царь (великий князь). Характерным и вместе с тем парадоксальным в этом случае является то, что процесс окрестьянивания русской культуры набирал силу по мере того, как росла и крепла Московская Русь. Возложил на себя царскую корону и произнес слова: «Два Рима пало, третий стоит, а четвертому не бывать», — уже русский царь-батюшка, самый главный крестьянин Руси. Царственность Московских царей очевидным образом была патриархальной. Все подданные московского царя воспринимали себя в качестве его детей. Соответственно, по отношению к царю у них могли быть одни обязанности, а никакие не права. Право казнить и миловать принадлежало только царю. Он бывал Грозным, как Иван IV, или Тишайшим, как Федор Иоаннович, но лютовал или царствовал в тихости по праву. Тут ему никто был не указ. Исключение составляла Церковь. Ее представители, случалось, выступали с обличением царских непотребств. Но представить себе на русской почве что-либо подобное отлучению от Церкви Римскими Папами западных императоров и королей совершенно невозможно. В целом духовенство так же склонялось перед царской волей, как и другие сословия.
На посторонний взгляд (а таковым в значительной степени стал взгляд не только иноземцев, но и русских людей XVIII-XX веков), в Московском царстве в промежутке между началом XVI и концом XVn столетий царили всеобщее рабство и низкопоклонство, угнетенность и подавленность личности. И в самом деле, царская власть и воспроизводящие ее власти на местах менее всего склонны были принимать во внимание то, что на Западе считалось и считается личными правами. Московская Русь не была правовым государством хотя бы с каким-то подобием самостоятельности судебных инстанций. Однако и утверждение о всеобщем рабстве было бы поспешным и, как минимум, неточным. Все-таки русский царь был помазанником Божиим, отвечающим за своих детей-подданных перед Богом. Он подлежал Божьему суду и ему необходимо было печься о спасении своей души. Даже
у такого преступного царя, каким был Иван Грозный, имели место не только поползновения на неограниченную власть, якобы дарованную ему Богом, но и раскаяние по поводу совершенных им преступлений. Если Иваном IV делались многочисленные пожертвования монастырям с тем, чтобы их монахи молились за души погубленных людей, то за этим не может не стоять сознание своей преступности и греховности. Такое сознание в принципе чуждо тому, кто воспринимает своих подданных в качестве рабов. Конечно, они были рабами, но только рабами Божиими, каковым, несмотря на всю свою вознесенность, оставался в своем представлении и русский царь. Для него русский народ был детьми, за которыми необходимо строгое попечение, которых можно и нужно строго наказывать, но обязательно к их благу. Самое сомнительное и опасное в этой ситуации состояло в том, что русские цари не знали никаких внешних ограничителей в своих добрых и злых делах. На Западе монарх и в Средние Века, и в Новое Время воспринимал себя в соотнесенности с рыцарским, а затем дворянским сословием. Первоначально он был первым «рыцарем королевства», следовательно, для него все рыцари в чем-то были равны ему. Король за определенные преступления мог и вправе был казнить рыцаря. Казнить, но не унизить. Рыцари были людьми чести, таковым должен был быть и их монарх. В правила же его чести входило отношение к своим вассалам как к таким же, как и он сам, свободным людям. Они свободно через принятие вассальной присяги служили своему монарху. При всем несходстве дворянства с рыцарством, и у него сохранялась соотнесенность со своим монархом как свободных людей со свободным человеком, пускай и поставленным над ними. Отличие монарха Нового Времени от средневекового в том, что его власть осмыслялась в качестве надсословной. Он уже не первый дворянин среди дворян, точнее, он тоже, но в первую очередь монарх — это персонификация всей страны. В его стране есть различные сословия, однако каждое из них обладает своими правами и привилегиями, своей большей или меньшей долей свободы, посягать на которую монарх не вправе. На фоне такого отношения монарха и подданных люди Московского царства выглядят бесправными. И они действительно не имели прав. Московское царство было страной одних обязанностей. Подданных перед государем и государя, отвечавшего за них перед Богом. Связи между людьми, опять-таки, строились в Московской Руси по аналогии с родственными. Всеобщим отцом был царь-батюшка, но и его бояре и воеводы тоже опекали подвластных им людей, как отцы опекают свои семейства. Все Московское царство можно уподобить одной огромной семье, состоящей из множества семей различного уровня, вплоть до настоящей семьи. Такая семейственность, увы, не служила препятствием ни грубости, ни жестокости, ни безграничному корыстолюбию отцов-властителей в отношении своих детей-подданных. И все же, еще раз вернемся к этому, страной всеобщего рабства Московская Русь не была. Ведь там, где есть рабы, там должны быть и рабовладельцы, т. е. свободные люди, которым они принадлежат. Так во всяком случае обстояло дело в Античном мире. На Древнем же Востоке быть человеком и значило быть рабом, над людьми возвышался божественный царь. У нас в Московском царстве не было ни свободных рабовладельцев, ни божественного царя, а следовательно, для именования русских людей рабами нет достаточных оснований.
Строго говоря, они находились по ту сторону рабства и свободы, не будучи низринутыми в первое и не дотягивая до второго. Русские люди московского периода пребывали в каком- то странном промежуточном состоянии. По своему бесправию и неиндивидуализированно- сти своего существования они вполне годились в рабы. Однако рабство обязательно предполагает сильную степень отчужденности господ от рабов, пропасть между ними, те и другие образуют свои замкнутые миры. Рабский мир господа от всей души презирают, не видя в нем никакой существенности и смысла. Для рабов же мир господ вознесен на недосягаемую высоту и во всем отличен от рабского. Так было на Древнем Востоке, так было в античной Греции и Риме и даже Западном Средневековье, в той мере, в какой рыцарское сословие противопоставляло себя крестьянству. У нас же, как уже отмечалось, даже жизнь царского
| r*s |
| * - 5 *• * E F < CQ 2 CO |
| 'С |
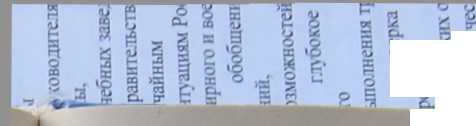

двора имела множество черт глубокого сходства с жизнью крестьянской усадьбы. Такая однородность в определенном и существенном отношении отменяла последствия всевластия царя и вменявшейся всем остальным русским людям безусловной покорности. Московский царь был слишком свой среди своих, чтобы видеть в подданных рабов. Скорее он был тем же крестьянином, которому остальные крестьяне уступили власть над собой в ощущении необходимости крепкого и неумолимо строгого, хотя временами и не чуждого милосердия, попечения над ними. Оно ограничивало совсем не свободу подданных, а скорее их волю.
И в самом деле, покорности и приниженности, безграничному послушанию в исполнении обязанностей (государева тягла) у людей Московской Руси противостоял порыв к воле. Воля же — это совсем не свобода в том существенном отношении, что она вполне чужда момента самодисциплины и индивидуальной ответственности. Пожить по своей воле для русского человека XV-XVn веков означало оказаться как бы по ту сторону добра и зла. Воля по самому своему существу чужда некоторой направленности жизненного пути, который предстоит пройти человеку пред лицом Бога, на воле гуляют и пируют. Она может быть и действительно свободной игрой жизненных сил, но ничто не мешает ей перейти в непотребство, кровавое свинство и зверство. Свидетельством тому прежде всего русское казачество. Нельзя сказать, чтобы фигура казака не имела никаких аналогов на Западе. К ней близки пираты и флибустьеры XVI-XVH веков, в чем-то и конкистадоры и даже ландскнехты (наемные воины XVI-XVII веков, чаще всего немцы). Однако перечисленная вольница вовсе не представительствует за западную свободу современного ей периода. На Западе подлинно свободен в этот период дворянин и в чем-то бюргер (буржуа), свободен и итальянский пополан. У нас же казачеству противопоставить по критерию свободы решительно некого. В Московской Руси можно было или находиться под суровой отеческой властью царя, боярина, дворянина и т. п., или же вырваться на волю и там всласть погулять. Проще всего при разговоре о всякого рода вольнице сослаться на протест низов против угнетения, исходящего от государства и правящего слоя Московского царства. Однако ничуть не менее убедительным будет противоположный по смыслу ход, когда суровая и жестокая власть в Московском царстве объясняется внутренней неустойчивостью русского человека. В ней легко обнаруживались такие хляби и такая стихия и бесформенность, которые требовали жесткой руки и делали оправданными требования безоговорочного повиновения. В конце концов, московский царь-батюшка пришел ни откуда-то извне русской жизни. Он ее порождение и выражение. Суровости правления царя вполне соответствовала, пускай и не совсем осознанная, потребность в ней у подданных. В значительной степени они оставались детьми, которые знают за собой недостаточную способность к последовательным и отвечающим за себя действиям. Поэтому как бы их не тянуло время от времени пожить по своей воле, они знали, как это опасно и гибельно и как необходимы им твердая рука и отеческое попечение.
Московская Русь и складывалась таким образом, что в ней постоянно проявляла себя тенденция ко все большему возвеличиванию царской власти и, соответственно, к превращению всех остальных людей в государевых слуг, которые уже к началу XVII века готовы были все без исключения именовать себя царскими холопами. Так уж сложилась русская история московского периода, что Русь крепла и расширялась за счет составлявших ее людей. Впрочем, крепость и могущество Руси были относительны и не так уж безусловны. В русских людях той поры устойчиво сочетались представления о своей земле как православном царстве и космически устроенном мире в окружении или антимира язычников- бусурман, или раскольников с какой-то неизбывной неуверенностью в себе и растерянностью. Под чувством превосходства у них слишком часто проглядывало нечто прямо противоположное. Заявив о себе как о третьем Риме, Московская Русь ощущала себя вовсе не православной ойкуменой, а скорее островом в окружении враждебных стихий, а то и осажденной крепостью. Первый и подлинный Рим жил совсем другим представлением. Став из полиса Империей, из Рима — миром, он завоевал едва ли не все, что считал нужным завоевать.
Спокойное, величественнее и снисходительное пренебрежение соседями легко и естественно давались Риму и римлянам. Московская Русь и русские люди по отношению к соседям были чем далее, тем более опасливо осторожными и тяготеющими к изоляции. Настоящий имперский дух предполагает куда большую открытость, чем у Москвы. По своему характеру он устроительный и собирательный в отношении остального разрозненного мира. Нечто подобное Московская Русь знала, объединяя русские княжества вокруг Москвы, завоевывая татарские ханства, принимая под государеву руку просившие об этом племена и народы, осваивая степные районы и необъятные просторы Сибири. Однако подобному разворачиванию Московской Руси был положен предел наличием окружавших ее сильных и во многом более культурных соседей — западных европейских государств.
Первоначально еще в стародавние киевские времена Русь и ее князья были открыты к контактам с Западом. Напомню общеизвестный пример, наглядно свидетельствующий об ощущении Русью своей близости к Западу, — о браке дочерей Ярослава Мудрого с западными королями, среди которых был и брак с первым монархом в Европе — королем Франции. То, что было так естественно во времена Ярослава, совершенно немыслимо в Московской Руси. С тех пор как московские великие князья провозгласили себя царями, они брали жен для себя и своих наследников исключительно из среды русской знати. Была, правда, попытка одного исключения со стороны первого русского царя Ивана Грозного сосватать себе в жены королеву Англии Елизавету Тюдор. Но она может быть упомянута как экстравагантность. Реально Иван IV, как и его преемники, брал в жены только своих русских невест. Такой обычай в Европе XVI—XVII веков. Был исключением и может служить одним из, пускай, и не самых важных, но очень красноречивых свидетельств самоизоляции Москвы, которая не могла привести ни к чему хорошему.
Другой ее красноречивый признак имеет отношение к характеру встречи послов западных держав московскими государями. В настоящем случае уместным будет сопоставить свидетельства, принадлежащие двум различным эпохам в жизни Московской Руси. Одно из них касается времени правления Ивана III — первого великого Московского князя, который в полной мере стал государем всея Руси, подчинив себе Новгород и Тверь, а также существенно расширив пределы своего государства на Запад за счет Великого княжества Литовского.
В 1477 году в Москве оказался некто Амброджо Контарини. Он побывал в качестве посла венецианской республики в Персии и обратный путь проделывал по Волге и, стало быть, не мог миновать в своем странствовании Московии. В Москве Контарини прожил четыре месяца и будучи представителем такой видной в конце XV века державы, как Венеция, вызвал интерес со стороны правительства. Что и привело к аудиенции венецианца у самого великого князя Ивана Васильевича. Вот как ее описывает сам Контарини. «На следующий день я был приглашен во дворец на обед к великому князю. До того как идти к столу, я вошел в покои, где находился его высочество... с доброжелательнейшим лицом его высочество обратился ко мне с самыми учтивыми, какие только могут быть, словами... Пока государь произносил свою речь, я понемногу отдалялся, но его высочество все время приближался ко мне с величайшей обходительностью. Я ответил на все, что он мне сказал, сопровождая свои слова выражением всяческой благодарности. В подобной беседе мы провели целый час, если не больше. Великий князь с большим радушием показал мне свои одежды из золотой парчи, подбитые прекраснейшими соболями. Затем мы вышли из того покоя и медленно пошли к столу. Обед длился дольше обычного, и угощений было больше, чем всегда. Присутствовало много баронов государя... Я поцеловал руку его высочества и ушел с добрыми напутствиями». 16
В описании аудиенции венецианским послом очень примечательна простота обхождения с ним московского государя и его доступность иноземцу. Иван III своим приближением
к пятящемуся Контарини уменьшает даже привычную для западного человека дистанцию между простым смертным и государем. По-настоящему оценить поведение Ивана IV позволяет сопоставление его аудиенции с той, которую спустя около двухсот лет дал русский царь Алексей Михайлович, на этот раз посольству Нидерландов. Согласно свидетельству одного из членов посольства Николаса Витсена, на ритуал приема гостей из Нидерландов ушло
13 часов. В 9 часов утра за нидерландским посольством прибыли,от царя приставы и только в 22 часа нидерландцы вернулись на посольский двор. Если читатель решит, что большую часть времени между 9 и 22 часами посольство провело в общении с царем Алексеем Михайловичем, он сильно ошибется. Приведу один только пример (на такого рода занятия ушло подавляющее большинство времени приема посольства). «Мы ехали к Кремлю, — пишет в своем дневнике Николас Витсен, — который находился на расстоянии менее трех мушкетных выстрелов; гонцы мчались взад и вперед: первый доложи л, что посол готов, второй — что он сидит в санях и т. д. То передавали, чтобы мы остановились, то — чтобы ехали быстрее, затем — снова медленнее. Все это происходило, чтобы подчеркнуть величие царя и чтобы царь не слишком рано и не слишком поздно сел на трон. На всем пути до дверей царского зала с обеих сторон дороги стояли стрельцы». [130]
Уже в приведенном фрагменте начинают прорисовываться контуры грандиозной, а точнее, громоздкой церемонии, невероятно растянутой, утомительной и тягостной для всех ее участников. Во всем царском приеме общение царя с послом свелось не просто к минимуму, а к чистой формальности, о чем у Н. Витсена можно прочитать такие строки: «Войдя в большой царский зал, посол пошел вперед, мы следовали за ним. У входа посла встретил князь Юрий Никитич Барятинский, который повел его к царю, придерживая за мантию. Подойдя достаточно близко, он остановился в 20 шагах от царя... Царь сидел почти в углу зала на небольшом троне, к которому ведут три посеребренные четырехугольные ступеньки. Прежде ступеньки были большие и круглые, на них становились, подходя к царской руке. Но теперь царь слишком великий, чтобы кто-нибудь мог так близко подходить к нему. Царь ... не шевелился, как бы перед ним не кланялись; он даже не поводил своими ясными очами и тем более не отвечал на приветствия...
Посол, собираясь говорить, хотел приблизиться к трону на один или два шага, но его удержали за мантию, после чего он сразу начал говорить и при каждом упоминании царского имени кланялся до земли. Царь не сказал ни слова в ответ, за него говорили другие — справились о здоровье Их Высокомогуществ (правительства Нидерландов.— П. С.). Когда закончилось приветствие, состоявшее в основном из комплиментов, царь устами думного дьяка спросил, что собственно привело сюда посла, на что тот ответил, что не смеет так долго задерживать столь великого монарха и хотел бы говорить об этом на следующем приеме. Когда посол подал верительную грамоту царю в руки, тот лишь прикоснулся к ней, а принял ее думный дьяк, последний отступил, остановился и сказал, что царь пожаловал посла подойти к его руке, что и произошло, при этом полагалось сделать три-четыре поклона, прежде чем подойти к царю, и столько же поклонов при уходе от него». [131]
Контраст между двумя приемами послов в Москве, как видим, поразительный. В 1664- 1665 годах всякое непосредственное общение между русским царем и послами исключено. Все заботы царя и окружения сосредоточены на том, чтобы ослепить иноземцев величием государя и его державы, ни в чем не уронить перед ними своего достоинства. Для Москвы конца XVII века западные люди уже прямо-таки антиподы. В отношении их всего нужно опасаться и все предусмотреть заранее. Так сказывались на Московском царстве два столетия культурного одиночества. Наедине с собой, с оглядкой почти исключительно на самое себя, Московская Русь застывала и тяжелела, становилась провинциально неуклюжей, в ряде существенных черт даже более архаичной, чем в начале своего исторического пути. Принято считать, что облик Московского царя по мере укрепления его самодержавия все более приобретал восточные черты. Однако приведенный фрагмент, как и множество других свидетельств, говорит скорее в пользу того, что московский царь по своему облику и все более ритуальному поведению напоминает властителя самой глубокой древности. Так, монолитная неподвижность царя на троне, невозможность прямого контакта с чужим иначе, чем в ритуале поклонения пришельца царю — это реалии, идущие из первобытности, а не только из Древнего Востока. Все более и более внешне подвижному, целеустремленно-деятельному Западу Московская Русь упорно противопоставляла свою неподвижность, в которой она искала устойчивости и крепости. Существовала, правда, в Московской Руси и прямо противоположная тенденция, особенно набиравшая силу в XVII веке. Она состояла в том, чтобы прибегать к услугам иноземцев с Запада. Хорошо известно, что кремлевские соборы уже с конца XV века строили итальянцы. Западные врачи при царском дворе с XVI века становятся обычным явлением. И, конечно же, необходимо упомянуть о службе иностранцев (немцев, англичан, шотландцев, голландцев и т. д.) в русском войске. Никакой опасливый изоляционизм и недоверие к Западу не могли помешать тысячам наемников служить в войске московского царя. В этом была прямая и острая государственная необходимость. Однако иноземец на службе русского царя, торгующий в его государстве и даже постоянно живущий в особой немецкой слободе в Москве, — это одно, тогда как принятие Запада, внутреннее сближение с ним — совсем другое. Последнее стало уже делом Петра Великого и той эпохи, которую он так глубоко и существенно определил своим обликом и своими устремлениями.
Для того чтобы преодолеть отчуждение от западной культуры, войти в культурный круг западных народов, необходимо было прежде всего отодвинуть на задний план конфессиональные различия. С западной стороны ситуация отличалась тем, что там XVII век — это уже период состоявшейся секуляризации культуры. Последняя война на Западе, хотя бы частично носившая религиозный характер, завершилась в 1648 году. Уже в ней возникла путаница, когда католическая Франция воевала на стороне протестантского блока против своих соперников в католическом лагере — Австрии и Испании. После же тридцатилетней войны государственная жизнь западных стран всецело строится на секулярных основаниях. Соответственно, и Русь—Россия ввиду своей православности не для кого не представляла врага. С Русью дело обстояло иначе. Для нее секуляризация не стала предпосылкой сближения с Западом. Московская Русь секуляризовалась уже в процессе вхождения в западноевропейский культурный круг. Для Руси секуляризация и вестернизация культуры были двумя сторонами одной медали. В состоявшейся уже при Петре I секуляризации, самое, наверное, поразительное состоит в том, что ей непосредственно предшествовала напряженная религиозная жизнь русских людей. В середине XVII века наличествовали явные признаки глубокой задетости религиозными вопросами великого множества людей. И речи не могло идти о каком-то ослаблении веры и повороте исключительно к мирским делам. Однако напряженность веры и всей религиозной жизни несла в себе нечто такое, что смущало русских людей, оставалось непроясненным и вылилось на этот раз в церковную «смуту». И здесь нелишним будет напомнить, что самое страшное испытание, через которое прошла Московская Русь — это смута, которая впервые себя выразила в опричнине Ивана Грозного и затем еще более страшно и масштабно дала о себе знать Смутным временем начала XVII века. Изгнанием поляков из Москвы, а главное, избранием на царство Михаила Федоровича Романова гибельное неустроенйе русской жизни было преодолено. Но на смену смуте в русской истории пришло далеко не тихое и спокойное время. По-своему, это поразительно, что период между двумя историческими катастрофами — смутой и петровскими преобразованиями — стал временем, заслуженно названным «бунташным веком». Как только страна начала оправляться от потрясений и разрухи 1605-1612 годов, стали выходит}» на поверхность
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 488;
