КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 63 страница
XVII веке — это огромная, очень богатая и затейливая крестьянская изба. Крестьянская в ней утварь, крестьянский быт.
Есть одна очень примечательная черта в русском воинско-землевладельческом сословии, черта, дававшая себя знать еще в домонгольской Руси и.особенно проявившаяся в Руси Московской. Наши дружинники, бояре и дворяне какие-то не воинственные. Парадокс: невероятно расширившаяся Россия никогда по-настоящему не имела милитаристского духа. Воинское сословие воевало как-то нехотя и неуклюже, кряхтя от неудовольствия, что его побеспокоили. В нем проступают крестьянская тяжеловесность и заскорузлость. Скажем, в Испании или Англии средневековый крестьянин чуть рыцарствен. Это полная нам противоположность. Почему ситуация на Руси сложилась именно таким образом, что крестьянская стихия поглотила все?
Можно указать на то, что на Западе имел место факт завоевания германскими племенами этнически чуждой им территории. Поэтому дружинники германских конунгов изначально
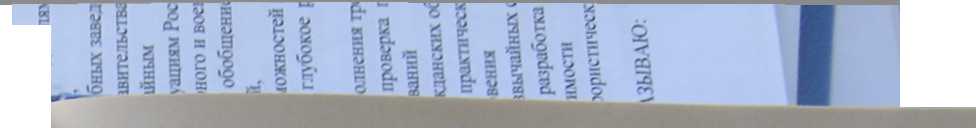
|
дистанцировались от завоеванного населения и культивировали в себе воинские доблести. Кстати говоря, рыцарский замок — ведь это не только защита от другого феодала. В нем выражен принцип дистанции от подвластного крестьянского населения. Замок и иадприро- ден и наднароден, если под народом понимать крестьянство. Другое и более глубокое объяснение состоит в том, что западный рыцарь был восприемником германского героического идеала. Рыцарство трансформировало героизм в христианском духе, одновременно героическое начало выветривалось из зависимых и угнетенных вилланов. Отсюда огромность дистанции между рыцарем и крестьянином. Я бы не рискнул сказать, что русский человек изначально был лишен героического начала. Но, по сравнению с германцем, оно в нем приглушено и ослаблено. Даже в период Киевской Руси, когда еще было далеко до тотального окрестьянивания русской культуры, русский воин-земледелец был прежде всего земледельцем, а потом воином. Сопоставимой с германской воинственности у него никогда не было. Ее и трудно представить себе у людей, осваиваивших огромные редконаселенные пространства. Тут было или — или: или заселять и как-то устраивать свою землю, или воевать с другими странами и народами. Русский народ выбрал первое, то есть свою соотнесенность с землей, которая растворила его в себе настолько, что практически все сословия ощущали себя прежде всего людьми русской земли-кормилицы и только потом воинами, гражданами или сельскими жителями.
Глава 3 КУЛЬТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ
Вопрос о том, когда начался русский народ, к какому веку отнести первые проявления его культуры, последние годы вызывает у ряда историков искушение отодвинуть начало Руси как можно далее вглубь столетий. За такими попытками могут стоять различные мотивы. Но, во всяком случае, молчаливо предполагается: чем древнее народ, тем большим достоинством он обладает, тем богаче его культура. Нам, русским, в отличие от многих народов, хвалиться поражающей воображение древностью своей культуры не приходится. Всякие же попытки накинуть ей возраст упираются в одно непреодолимое препятствие. Историческая память народа, его знание собственной истории, ее событий и деятелей не идет далее IX века. Точно так же нам практически нечего сказать о памятниках русской культуры более отдаленного, чем IX век, времени. Конечно, можно ссылаться на то, что археологические раскопки в Старой Ладоге, Новгороде или Киеве подтверждают: здесь задолго до IX века существовали славянские поселения предков по прямой линии тех же самых ладожцев, новгородцев и киевлян. Весь вопрос, однако, в том, есть ли у нас право относить Ладогу, Новгород, Киев до IX века к русским городам и русской культуре. Если мы решим его с великой легкостью в пользу большей древности нашей культуры, такое наше решение будет игнорировать то обстоятельство, что сам русский народ практически ничего о своем VIII, VII и т. д. веках не помнит и нам приходится искусственно напрягать его историческую память. Живой, органической связи с предшествующим IX веку временем у русского народа нет. Нет ни летописей, ни эпоса, ни преданий. А это значит, что до IX века не было и русского народа. На землях будущей Руси еще в VIH веке жили люди, чьи потомки позднее станут русским народом, но были они восточно-славянскими племенами, из которых мог сложиться, а мог и не сложиться русский народ и его культура. Жизнь этих племен представляла собой русскую предысторию и предкультуру, истории и культуре же еще предстояло состояться. Знаменательно, что наша отечественная летопись «Повесть временных
лет» начинает собственно историческое, с фиксированными датами, повествование о Руси 852 годом. «В год 6360 (852), индикта 15, когда начал царствовать Михаил, стала прозы- ваться Русская земля. Узнали мы об этом потому, что при этом царе приходила Русь на Царьград, как пишется об этом в летописании греческом. Вот почему с этой поры начнем и числа положим».4 Для нашей истории первой зацепкой оказалось упоминание Руси греками, ее прикрепленность к царствованию византийского императора. Сама для себя Русь до этого момента ничего не значила. Ее бытие начинается с бытия для другого, для исторического народа, чья история укоренена в глубинах столетий. Мы запомнили себя потому, что нас помянули греки. Для только еще начинающего свою историю народа это нормально. Она не может быть чисто внутренней уже потому, что на Руси в это время нет письменности, вет и ощущения направленности исторического времени. Пока ему неоткуда и некуда идти. Другое дело, прикрепленность к Византии и причастность ее истории, здесь можно обрести и свою историю. Правда, для ее исходных точек недостаточно значить нечто в глазах другого народа и ничего не значить для себя. Поэтому после того, как Русь запомнили, необходимо, чтобы она себя запомнила и наполнила свою память происшедшими в ней событиями — исходными точками своей истории. Каковы они — вполне очевидно. Это призвание варягов (862 г.), захват князем Олегом Киева (882 г.) и крещение Руси (988 г.)- Сложность здесь лишь в том, какую из трех вех считать основополагающей датой русской истории и культуры. У каждой из них есть свои права на первенствование. С 862 года летопись начинает княжение Рюрика, князя, основавшего династию, неизменно правившую Русью вплоть до смерти в 1598 году царя Федора Иоановича. Но непрерывную линию русской государственности вести от Рюрика вроде бы рано. Ему был подвластен только север Руси. А вот Олег становится первым киевским князем, чье княжество объединило большую часть восточно- славянских племен и земель. Так что от взятия им Киева удобно вести непрерывную линию русской государственности.

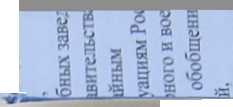
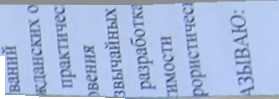
|
вается то, что призвание варягов и основание Киевского княжества стали событиями, предваряющими крещение Руси, делающими его возможным. В свою очередь крещение оправдывает и освящает высшим смыслом возникновение Киевской Руси. Что ни говори, а сама по себе Киевская Русь оставалась полуварварс- ким и полугосударственным еще объединением, чья отмеченность в западной истории до крещения была связана с походами на Константинополь и войнами с Византией. Само того не сознавая,
Киевское княжество при Олеге, Игоре и особенно Святославе стремилось сыграть в западной истории роль, сходную с той, которую за 500-600 лет до этого сыграли германские племена, вторгшиеся на территорию Римской империи.
Крещение же сделало Русь из грозного противника Византии, подрывающего своими набегами и без того слабеющую мощь опоры христианства на востоке, одну из многочисленных метрополий Константинопольского патриархата. Военно- политически с крещением Русь умалилась, но этим умалением она создала себя как необратимую в ничто культурноисторическую реальность.
Сказанное до сих пор сводится к тому, что русская история и культура начались двояко. Через основание государства, точнее же, создание пока еще полугосударственного образования и через крещение Руси. И здесь необходимо подчеркнуть, что так называемое призвание варягов 862 года и крещение Руси 988 года для русской культуры не просто условные вехи, позволяющие ориентироваться в историческом времени. Каждое из них выразило собой нечто устойчиво характерное для Киевской Руси и всей тысячелетней Руси — России.
Состоявшееся согласно единственному на этот счет источнику — «Повести временных лет» в 862 году призвание варягов давно обескураживает историков своей необычностью и странностью. Привычным для начала государственности является завоевание одним народом другого. Но где это видано, задавалось вопросом множество людей, обращавшихся к истокам русской государственности, чтобы государство начиналось так, как описано в летописи? Сказано же там следующее:
«В год 6370 (862). Изгнали варяг за море, и не дали им дани, и начали сами собой владеть, и не было среди них правды, и восстал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще готландцы, — вот так и эти прозывались. Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой,
Синеус, — на Белозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».[125]
К приведенному тексту из «Повести временных лет» можно относиться двояко. Во- первых, воспринимать его как более или менее достоверное свидетельство о реально происшедшем событии. Во-вторых же, этот текст допускает отношение к нему как национальной мифологии, этиологическому мифу о происхождении русской земли. Если сосредоточиться на втором аспекте, то легко обнаружить, что у записи от 6370 (862) года есть некоторая доля общности с другими национальными мифами. Чтобы далеко не ходить, обратимся к скандинавской мифологии, как она запечатлена в сборнике мифологических текстов «Младшая Эдда». В самом начале «Младшей Эдды» повествуется о том, как возникли скандинавские страны. Так же, как и в «Повести временных лет», там рассказывается, откуда есть пошла русская земля. «И что же, оказывается, — что варяги ведут свое происхождение из Трои. Их первопредок — Тор, он был женат на дочери «верховного конунга», царствовавшего в Трое, Приама. Потомок Тора в девятнадцатом колене, Один, отправился из Трои на север приблизительно так же, как Рюрик в славянские земли. Опять-таки, он взял с собой множество людей, молодых и старых, мужчин и женщин и много драгоценных вещей. Правда, Один, в отличие от Рюрика, стал основателем сразу нескольких государств. Но вот как его встретили в будущей Швеции, откуда был родом и наш Рюрик: «Имя тамошнего конунга было Гюльви. И когда он узнал, что едут из Азии эти люди, которых называли асами, он вышел им навстречу и сказал, что Один может властвовать в его государстве, как только пожелает».® Как видим, согласно «Младшей Эдде», предки того, кому предстояло сыграть роль «русского Одина», сами встретили пришельца по формуле, близкой к нашей: «Приходите княжить и владеть нами».
Объединяет русских и скандинавов в их осмыслении начала собственной страны и ее государственности один мифологический мотив, который присутствует у множества других народов. Государственная власть обязательно должна быть иноприродной той стране, где она осуществляется, или хотя бы содержать в себе момент иноприродности. Так осмысляли свою власть, к примеру, римляне. Они возводили своего предка к той же Трое, что и скандинавы. Последние очевидным образом подражали здесь римлянам. Ни тот, ни другой народ не видел в этом ничего зазорного, умаляющего их достоинство. Для них, как и для русских, самое важное было акцентировать момент сакральности власти в своей стране. Она связывалась с космическим устрояющим началом, которое приходит в хаос автохтонной жизни народа извне, как бы с неба на землю. Крещенные к моменту написания «Повести временных лет» русские не могли в своей летописи даже намекнуть на божественность происхождения своих властителей, на то, о чем в полный голос говорили римляне и что довольно явно присутствует в «Младшей Эдде». Зато в полный голос русский летописец говорит о хаосе неустроения исконно русской жизни до прихода космически-сакрального начала в будущие русские земли. Этот очень внятный и форсированный акцент на неспособности наших предков к самостоятельно оформленной и организованной жизни заставляет заподозрить в нем нечто своеобразно русское. Все-таки таких упреков в адрес самих себя в других национальных мифологиях не встретить. У тех же скандинавов или римлян появление Одина или Энея происходит по логике смены хорошего или терпимого еще лучшим. У нас же с появлением Рюрика действовала вовсе не логика «лучшее враг хорошего», а скорее «плохое враг хорошего». Как же, в таком случае, можно истолковать цитированные строки из «Повести пламенных лет»?
Прежде всего отметим, что для нас совершенно неприемлемы утверждения, согласно которым германский элемент был необходим для становления русской государственности.
Без него Киевская Русь или нечто подобное якобы не могла состояться. Строя подобные концепции, их авторы как-то слишком легко забывали, что варяги, если они действительно пришли на Русь в 862 году, сами находились на догосударственной стадии существования. Более того, германцы вообще, а скандинавы в особенности, долгие столетия после возникновения у них государств были почти вовсе лишены государственных добродетелей, духа государственности, без которого, например, невозможно себе помыслить греков или римлян. От германца исходно шел дух индивидуализма, отъединенности существования двором или дружиной и менее всего стремление к собиранию и устроению земель в единое государственное образование. Поэтому на русской почве варяги могли быть прекрасными и незаменимыми воинами и даже властителями. Но эти последние тогда, когда они становились русскими князьями, несравненно больше подчинялись стремлениям русских людей, чем подчиняли их импульсам собственной воли к государственному строительству. И потом, как бы внушительно не звучал тезис о том, что Русь возникла за счет того, что жесткая германская воля к форме встретилась с бесформенной стихией русской жизни и организовала ее, у нас нет свидетельств о присутствии в культуре Киевской Руси, ее сохранившихся памятниках и документах германско-варяжского начала. У первых русских князей были варяжские имена, встречаются они и в княжеском окружении. Вот едва ли не все, что можно сказать о присутствии германского элемента в русской культуре.
Таким образом, призвание варягов если и является свидетельством о русской культуре, то оно принадлежит не так называемой объективной реальности. Перед нами прежде всего свидетельство о русской душе, о понимании себя русскими людьми. А это очень характерно, что они воспринимают себя и свою страну в их несамодостаточности и готовности признать над собой власть внешнего начала. «Повесть временных лет» после призвания варягов не содержит никаких свидетельств о том, что варяги занимали какое-то особое положение на Руси, тем более речи нет об их господстве над подвластными русскими. Они как-то сразу растворились в русской среде, стали одной с ней реальностью. Уже одно это говорит о том, что летописцу и, соответственно, его читателю варяжская тема нужна была для сведения счетов с самими собой. Поскольку приход правящей династии извне, из среды скандинавов по исконно-мифологическим меркам был допустим и правомочен, то русская мифология истолковала его со своим своеобразным акцентом на нашей русской беспомощности, недостатке в русских людях последовательного жизнеустроительного начала, которое легко подавляется необузданной вольностью страстей и вожделений.
О крещении Руси, как и о призвании варягов, мы знаем практически исключительно из «Повести временных лет». Крещение это способно удивить читателя, не менее, чем призвание варягов. Поражает прежде всего то, что наша летопись фиксирует ситуацию состоявшегося к 988 году выбора веры. Согласно «Повести временных лет», перед князем Владимиром стояла нелегкая задача выбрать одну веру из четырех: магометанской, иудейской, западно- и восточно-христианской, будущих католицизма и православия. Ничего подобного не встретишь при описании обстоятельств крещения любого другого западного народа. Как правило, выбора у него не было, если же и был, то это был выбор между христианством и язычеством или между тем, принять ли веру от Ветхого или Нового Рима. Очень мало вероятно, чтобы перед князем Владимиром действительно когда-либо серьезно стоял вопрос о возможности принятия русскими людьми магометанства и тем более иудаизма. Иудаизм в сюжете «Повести временных лет» всплывает лишь потому, что его по какому-то поразительному историческому недоразумению умудрились задолго до Крещения Руси принять хазары. Ко времени выбора веры они уже были разгромлены отцом Владимира Святославом, но очаги хазарского иудаизма наверняка сохранялись в низовьях Волги и на севере Кавказа. Мусульманские страны в IX веке отделяла от Руси широкая полоса степи, населенная воинственными ко- чевниками-язычниками и контакты с ними носили исключительно характер торговли. Так что по-настоящему выбор у князя Владимира был не так широк и смотреть он мог вовсе не
во все стороны света. Реально выбирать нужно было «всего лишь» между будущими католицизмом и православием. А в выборе в самом деле существовала настоятельная нужда. Это не был вопрос досужих размышлений и предпочтений киевского князя. Какой бы могущественной ни стала ко времени Владимира Киевская Русь, пока она оставалась гаухим углом Европы, игравшим чисто отрицательную роль в мировой истории. Причастность к ней заключалась единственно в походах киевских князей на земли Византийской империи и сопредельных ей христианских государств. В IX веке быть положительно причастным истории можно было только через принадлежность к одной из мировых религий. Вне их страна не просто оставалась культурной периферией, а ее народ внеисторическим. Они были обречены на резкое отставание в своем развитии и последующую экспансию своих более продвинутых соседей. В Европе жертвой такой экспансии становится языческая Прибалтика, чье коренное население — пруссы, эсты и предки латышей — было частью истреблено, частью насильственно христианизировано. В любом случае историческими эти народы не стали, их культура вплоть до второй половины XIX века носила исключительно низовой и фольклорный характер.
С Русью ничего, подобного прибалтийским землям, не произошло именно потому, что она по своему географическому положению крестилась вовремя, и к началу военной экспансии рыцарей-крестоносцев в XIII веке Русь была в состоянии противостоять ей силами отдельных княжеств и земель, несмотря даже на татарское нашествие. Уже не говоря о внутренних, внешние преимущества христианизации Руси очевидны. Однако для понимания своеобразия русской культуры важно то, что осмысляла свое крещение она именно через ситуацию выбора веры. Ее сконструировало народное сознание ввиду того, что людям Киевской Руси было присуще ощущение молодости своей страны и вместе с тем известной ее неприкаянности и неприкрепленности к мировой оси, жизненному центру мира. Все-таки это очень показательно, что в описании самого русского летописца русские люди во главе со своим князем выступают в роли некоторого подобия дикарей, которых несколько стран и культур стремятся приобщить к своей более развитой и утонченной жизни. Для Руси предпочтительнее оказалось приобщение к православию и византийской культуре. С внешней стороны может показаться, что выбор Русью православия был делом исторической случайности, что князю Владимиру едва ли не выпал один из равновозможных жребиев. Не говоря уже о том, что за ссылкой на случай при принятии судьбоносных решений, как правило, стоит наша неспособность их понять, можно указать и на то обстоятельство, что Русь тянуло к Византии и Константинополю изначально. В начале это была тяга варваров- завоевателей, потом она стала тягой учеников к учителю. И в том и в другом случае самое важное состоит в том, что у русских людей было достаточно ясное понимание того, где находился в IX—X веках центр христианского мира и христианской культуры. Пока им несомненно оставался Константинополь. До расцвета же папства и всей католической средневековой культуры к моменту крещения Руси было еще далеко. Так что, приняв от Византии христианство, Русь сделала выбор, свидетельствующий в ее пользу. Другое дело, что Русь в исторической перспективе поставила себя в трудное, временами почти невыносимое положение. Но и здесь можно заметить, что выбор самого тяжелого пути сам по себе еще не свидетельствует о его неверности.
Как и для ее западных соседей, для Руси крещение вовсе не означало единственной, раз и навсегда состоявшейся христианизации. При всей значимости произошедшего в 988 году, ближайшие и последующие годы, с них начался процесс, который длился столетиями. Христианство постепенно проникало в народную толщу, в души русских людей, вытесняя предшествующее ему язычество. Однако языческие реалии так и остались соприсутствующими христианству. Они могли переосмысляться в христианском духе, могли сосуществовать с христианством или оттесняться на периферию религиозной жизни. Изменения, которые в этом случае происходили, приблизительно соответствуют переходу от состояния
христианизированного язычества к христианству, обремененному язычеством. Бели обратиться непосредственно к крещению Руси и последующим десятилетиям, то совершенно невозможно будет представить себе ситуацию, когда новокрещенный с полной ясностью ума осознавал всю противоположенность и несовместимость между христианской и языческой верой. Все, что могло первоначально происходить с крещением для огромного большинства русских людей — это признание и приятие нового бога в качестве верховного божества. Его несовместимость с предшествующими богами осмыслялась как вражда к ним, требование покориться ему, уйти в тень или совсем исчезнуть. Вновь крещенному язычнику первоначально в принципе оставалось недоступным представление о том, что признание Христа не совместимо с верой в других богов. Когда представители Церкви называли их бесами или демонами — это для вчерашнего язычника несколько понятнее полного отрицания Перуна, Велеса или Ярилы. Ведь эти боги некогда тоже вышли на передний план, оттеснив своих предшественников. Но из того, что в середине X века древний русич поклонялся Перуну, Велесу или Яриле вовсе не следовало, что для него всякий смысл утратило поклонение Роду или рожаницам. Самым архаичным пластом своей души наши отдаленные предки по-преж- нему были соотнесены с Родом и рожаницами. Заслоненные последующими богами, они неминуемо приобретали теневой и «ночной» характер, сближались с демоническими силами. Обращались к ним тогда, когда «дневные» боги оказывались бессильными или же, на всякий случай, по логике дополнительности.
Еще до всякой христианизации нашим далеким предкам был знаком феномен, который обыкновенно обозначается в научной литературе как двоеверие. В нем сочеталось поклонение богам архаического, древнего и темного язычества, над которым надстраивалось язычество более развитое, соответствующее далеко зашедшему процессу индивидуации первобытных и полу первобытных людей. Им не было никакой необходимости четко и последовательно соотносить между собой тоже самого Рода с Перуном, хотя оба претендовали на статут высшей и последней сакральной реальности. В пределах мифа логически несовместимое вполне уживается. Он допускает, что и Род и Перун — оба верховные боги. Только образ каждого из них выходит на поверхность из душевной глубины в различных ситуациях. Род, как это следует из его имени, начало порождающее. Понятно, что обращение к нему уместно для земледельца, когда он озабочен своим урожаем. Но вот этот же самый земледелец выступает в качестве воина-ополченца в войске Игоря, Святослава или Владимира до его крещения. Теперь уже не Род, а Перун выходит на первый план, вытесняя разуплотнившегося, до поры исчезнувшего из души язычника бога. Нужно было обладать пока еще недоступным русским людям единством самосознания, чтобы задавать себе вопрос о том, как совместить поклонение Роду и в то же время Перуну, как они соотнесены между собой и т. п. В общем-то на каком-то глубинном уровне они сливались и переходили друг в друга, обозначая собой некоторую невнятную божественность. Каждое обозначение которого заведомо не полное и не окончательное. И нужно было пройти длительный путь развития языческой религии, чтобы убедиться в безысходности поисков и обретения Бога во всей полноте его божественности в язычестве. Нечто подобное произошло в античном мире накануне его христианизации. Киевская же Русь крестилась в простоте и наивности, у нее не было опыта изживания в себе язычества, ощущения его непреодолимых тупиков. Огромное большинство новокрещенных очень смутно осознавали, что с ними происходит через обращение в христианство. Об этом в «Повести временных лет» есть очень внятное свидетельство. Вот как летописец повествует в ней о крещении киевлян. «Затем послал Владимир по всему городу сказать: «Если не придет кто завтра на реку, — будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, — будет мне врагом». Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: «Если бы не было это хорошим, не приняли бы этого князь наш и бояре». [126]

|
Приведенные строчки очень легко, как это многократно и делалось, истолковать в качестве свидетельства насильственной христианизации Руси. И действительно, в пользу такого вывода говорит содержащаяся в словах князя Владимира угроза. Нельзя однако не обратить внимания и на то, что она уравнивается тем, с какой легкостью согласились киевляне принять крещение. Согласно «Повести временных лет», оно состоялось в Днепре в течение одного дня. Вполне возможно, что в таком утверждении было некоторое преувеличение. И все же все доступные нам сведения дают основание для утверждения о наличии мощного встречного движения киевлян в ответ на призыв своего князя к крещению. В языческой системе координат киевский князь несомненно был фигурой сакральной. В нем просто не могли не присутствовать черты древнего царя-жреца. И если этот царь-жрец делает такой поворот в своем отношении к сфере сакрального, то в представлении киевлян и вообще русских людей за этим стояло какое-то новое, открывшееся царю-жрецу боговедение. Конечно же, в обращении князя Владимира в христианство можно было увидеть и знак развенчания его царственности, так же, как и мнимость божественности. Поскольку ничего такого не произошло, нам остается заключить, что восточно-славянское язычество к моменту крещения было основательно размыть и подорвано. Все-таки христианство начало проникать в восточные славянские земли задолго до княжения Владимира. Христианкой была уже бабка Владимира — канонизированная Православной Церковью княгиня Ольга. Ясно, что она не была единичным исключением в землях киевского княжества, христиане были и среди знати, и среди торговых людей и в других городах помимо Киева, таких как Новгород, Смоленск, Чернигов.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 527;
