КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 49 страница
Глава 2 РЕФОРМАЦИЯ КАК РЕАКЦИЯ НА ВОЗРОЖДЕНИЕ
В самом слове «Реформация» содержится указание на то, что она стремилась реформировать позднесредневековый католицизм. В самом деле, отталкивание от католицизма и борьба с ним были для Реформации исходным импульсом, в решающей степени определившим ее развитие. Не случайно с началом реформационного движения и появлением протестантских конфессий связаны религиозные войны, в которых блок католических стран противостоял протестантскому блоку, или же войны вспыхивали внутри одной страны, как это было во Франции XVI века. На фоне противостояния католиков и протестантов конфликт между Реформацией и Возрождением выглядит как второстепенный. И все-таки без учета того, что Реформация была реакцией не только на кризис католицизма, но и на Возрождение,
самое существенное в ней останется непонятым. Знаковую, символическую роль в начале Реформации играло то обстоятельство, что торговля индульгенциями, вызывавшая такое неприятие и протест Лютера, была самым тесным образом связана со строительством собора св. Петра в Риме. Но ведь этот собор должен был стать не только главным храмом католического мира, но и непревзойденным шедевром ренессансной архитектуры. Достаточно сказать, что его купол был спроектирован Микеланджело. Вот и получается, что продавцы индульгенций, работая на себя и на римского первосвященника, работали еще и на Возрождение. В начале XVI века оно тесно переплелось с Католической Церковью. Во всяком случае римские папы, чей понтификат непосредственно предшествовал Реформации или совпал с ее первыми шагами, не только прославились как покровители ренессансных художников и гуманистов, но и сами были очень близки к гуманистическому умонастроению. С этим обстоятельством Мартин Лютер, тогда брат Августин, столкнулся в 1510 году, когда был послан в Рим уполномоченным по делам ордена августинцев. Это был год понтификата знаменитого «ренессансного» Папы Юлия II. Этот Папа известен не только как покровитель Микеланджело и Рафаэля и зачинатель строительства собора св. Петра, но и как энергичный правитель папского государства. Он заметно расширил его пределы, лично участвуя в нескольких военных предприятиях и даже сражениях. Современники приписывали Юлию II такое восклицание, обращенное к Христу: «Тысяча дьяволов! Так-то Ты защищаешь Церковь Свою!». Якобы оно сорвалось с папских уст, когда он узнал о том, что его войско разбито французами в сражении под Равенной. Юлий II в этом и многих других эпизодах напоминал скорее кондотьера, чем римского первосвященника, перед которым благоговел молодой Лютер. По его собственному признанию, относящемуся ко времени посещения Рима, он «так благоговел перед Папой, что ради него сжег бы всякого еретика». Тем более велико было его разочарование от пребывания в ренессансном Риме. Здесь он нашел бесчисленные святыни и реликвии, но ожидаемого благочестия не было в помине. Вольномыслие и скептицизм стали к тому времени вполне обычным явлением даже при папском дворе. Сам Папа держал обширный и пышный двор в ренессансном стиле. Среди его кардиналов и чиновников папской курии нередко встречались ренессансные гуманисты. Все это сильно разочаровало и оттолкнуло Лютера. Ренессансный гуманизм уже тогда для него был неприемлем ввиду своей несовместимости с искренней и глубокой христианской верой, всегда присущей Лютеру. !
Эта несовместимость со всей резкостью обнаружилась еще за полтора десятилетия до посещения Лютером Рима и связана с деятельностью Джироламо Савонаролы (1452-1498) и с тем движением, которое он возглавлял. Всю свою жизнь Савонарола считал себя правоверным католиком и никогда с Католической Церковью не разрывал, и все-таки в его деятельности и всем облике проступают черты, сближающие Савонаролу с Реформацией.
В 1475 году, в том же возрасте, что и Лютер, Савонарола уходит в монастырь. С 1481 года он живет во Флоренции, в монастыре св. Марка. Проповедует против развращенности клира и монашества, скорбит о церковном неустройстве, обличает распущенность флорентийских нравов. Известные флорентийские гуманисты, и в частности Пико делла Мирандола, испытывают симпатию к Савонароле. В 1491 году Савонарола избирается настоятелем монастыря св. Марка, его проповеди переносятся в кафедральный собор Флоренции и получают громкую известность. Он становится влиятельным человеком в городе. В 1494 году, когда был низложен за неспособность управлять государством Пьетро Медичи, власть переходит к Большому Совету. Савонарола, который пользовался огромным влиянием на членов Совета, становится вдохновителем и фактическим главой флорентийского правительства. Под влиянием Савонаролы в городе объявляется всеобщая амнистия. Принимаются меры в помощь беднякам. Самое же главное — в ренессансной Флоренции происходит кратковременный, но бурный религиозный подъем. Возрожденческая терпимость, свободомыслие и, нужно сказать, легкость нравов сменяются энтузиастической религиозностью. К 50 монахам возглавляемого
Савонаролой доминиканского монастыря св. Марка за очень короткий срок добавляются еще 260 монахов и послушников. Среди них городская знать, ученые, врачи, художники, купцы. Всюду творятся молитвы, женщины снимают с себя украшения и чрезмерно пышные соблазнительные наряды. Карнавальные празднества, ничуть не менее близкие ренессансной Флоренции, чем какому-нибудь позднесредневековому еще Нюрнбергу, сменяются религиозными процессиями и богослужениями, которые могли сопровождаться сжиганием вводивших в искушение книг, картин, нарядов и украшений.
Савонарола совсем не был фанатиком и мракобесом. Он, точнее, возглавляемый им монастырь, с большим трудом нашел средства для покупки библиотеки Медичи с ее крупнейшим собранием древних рукописей. Проповедь Савонаролы была направлена против ренессансного поклонения Античности, нравственного индифферентизма и религиозной беззаботности гуманистов, против их растворенности в мирских делах. Флорентийский доминиканец хочет чистоты веры и религиозного горения. Ему претит роскошь духовенства и формализм церковной жизни. Евангелие для него — это призыв к строгой христианской жизни. Все это — черты, сближающие правоверного католика Савонаролу с будущей Реформацией. И самое поразительное состоит в том, что он находит такой горячий, хотя и кратковременный отклик на свою проповедь в самом сердце ренессансной культуры. Гуманистам, по существу, нечего было противопоставить обличениям и призывам Савонаролы. В их мировоззрении и всем образе жизни имели место такие пустоты, которые не могли не тяготить и их самих. Отсюда, в частности, энтузиазм, с которым первое время гуманисты приветствовали Савонаролу. Им нечего было возразить на такой, например, выпад Савонаролы: «В самом деле, к чему служит красноречие, не достигающее предположенной цели? К чему служит корабль разукрашенный и расписанный, который постоянно борется с волнами, который никогда не приведет путешественников в порт, а, напротив, удаляет их от него? О великое стяжание для душ! Услаждают уши народа, восхваляют самих себя божественными похвалами, в громких фразах делают ссылки на философов, изысканно декламируют стихи поэтов, а Евангелие Христово оставляют или вспоминают весьма редко*.
Приведенные строки весьма легко принять за одну из инвектив, направленных против гуманизма, которые принадлежали Лютеру и другим деятелям Реформации. У римских пап и католической иерархии гуманизм и все ренессансное движение в конце XV века особого беспокойства не вызывали. А вот Савонарола навлек на себя преследование со стороны такого хитрого и жесткого политика, каким был папа Александр VI Борджиа. Вначале он вызвал Савонаролу ласковым письмом в Рим. Получив отказ, папа обвиняет знаменитого проповедника в сеянии смуты и соблазнов, в любви к новшествам. В мае 1497 года Савонарола отлучается от Церкви. В ответ он выступил с призывом к созыву церковного собора, где собирался разоблачить порочную жизнь папы, обвинить его и ведущих иерархов в симонии, и настаивал на реформировании и обновлении церковной жизни. Последовавшие за этим драматические события вскоре закончились для Савонаролы судом инквизиции и сожжением на костре.
В своей реакции на ренессансный гуманизм, весь дух Ренессанса « предреформатор* Савонарола указал на самое существенное из того, что станет неприемлемым в гуманизме и Ренессансе для Лютера и его последователей. Неприемлемым же для них было самовозвели- чивание и самообожествление человека, свойственное гуманистам не только в их философских сочинениях, но и в общении между собой. Приведем один только образчик последнего рода. Он принадлежит перу уже неоднократно упоминавшегося Пико делла Мирандола. На этот раз перед нами письмо, адресованное другому блестящему гуманисту, Эрмолао Барбаро: «Я не могу, мой Эрмолао, не сказать того, что я о тебе думаю, — обращается в начале письма к своему другу Пико делла Мирандола, — и в то же время не могу не иметь таких мыслей о человеке, который этого заслуживает и у которого все — как в целом, так и по отдельности — оказывается совершенным. Но если бы мой ум был способен думать о тебе по

|
твоим заслугам! Я зыаю, что мои о тебе мысли бесконечно ниже вершин твоей учености».[105] Человеческое совершенство, которому Пико делла Мирандола пел гимн в своей «Речи о достоинстве человека», находит свое дополнение в письме к Эрмолао Барбаро. В нем божественным предстает уже не человек вообще, а конкретный адресат, свой брат — ученый- гуманист. Для Реформации и протестантизма нет ничего дальше подобной трактовки человека. Они откровенно непримиримо противостояли всякого рода речам о достоинстве человека. Для гуманиста человек, если не актуально, то потенциально, — это все; для реформаторов Лютера и Кальвина — ничто, которого из ничтожества может вывести только Бог. Антропоцентризму Возрождения в лице Реформации противостоит даже не теоцентризм, а такая реальность Бога, которая все определяет и в центре внутрибожественной жизни, и на периферии тварного мира и человеческого существования.
Прямым, если и не намеренным обвинением гуманизму звучит следующий тезис Лютера; «Грешный человек не может естественно желать, чтобы Бог был Богом, но может только часто желать, чтобы Бога не было и чтобы он, человек, сам был Богом». Со второй частью этого тезиса гуманист, видимо, согласился бы. Первая же часть гуманистами никогда не проговаривалась. Но, похоже, здесь Лютер мог бы задеть гуманистов за живое. Их отношение к Богу никогда не доходило до богоборчества или богоотрицания. Они делали акцент на богоподобии человека, на возможности для человека стать Богом. Но вопрос о том, как совместима человеческая божественность с реальностью и присутствием Бога в мире, для них как будто не существовал. Гуманисты ощущали свою близость к Богу. Только это была близость родства и сыновства и менее всего — близость веры в Бога, надежды на Него и любви к Нему. Скорее гуманист и ренессансный человек вообще склонен был гордиться и восхищаться своей близостью и родством с Богом, чем испытывать влечение к Нему. Подразумевалось как бы, что Бог — это почти ты сам, себе ты и так принадлежишь, влечение же уместно по отношению к миру, которому еще предстоит стать сферой проявления человеческой божественности. Это проявление вовсе не нуждается в Боге, то есть в том, чтобы, по лютеровскому выражению, Бог был Богом. Для Лютера все дело здесь в том, что человек пребывает в грехе, в том состоянии, которое гуманисты совершенно не склонны были принимать в расчет. Для них человеческой греховности как бы не существовало, а следовательно, не существовало и потребности в искуплении и спасении. По Лютеру, для человека это естественно, с тем только уточнением, что естество у человека падшее и извращенное первородным грехом. Можно сказать и так: Лютер целиком принимает ренессансное представление о человеке с одной корректировкой. Это представление является совершенно естественным для людей, обреченных вечной погибели, для тех, кто человеческое ничтожество принимает за величие и достоинство.
Как видим, между ренессансно-гуманистическим и протестантским взглядом на человека нет точек соприкосновения, а если и есть, то это встреча разнонаправленных и несовместимых позиций. Причем их несовместимость остро ощущали и формулировали именно деятели Реформации. И понятно почему. До ее возникновения Возрождение худо-бедно уживалось с позднесредневековым католицизмом. Тогда как Реформация уже стремилась к тому, чтобы обновить всю позднесредневековую жизнь, частью которой стало Возрождение. Уверенно можно сказать, что Ренессанс, в отличие от Реформации, хотел быть терпимым и всеобъемлющим по своему умонастроению. Реформация резка и нетерпимо взвинчена, ее одушевлял пафос недостоинства и неприятия своих противников. Нельзя сказать, чтобы гуманисты вообще ни с кем не боролись и ничего не отрицали. Они еще как смеялись над «варварством» средневековой латыни, упрекали в сухости и тяжеловесности средневековую схоластику, не принимали готическую архитектуру и т.д. Но все это мелочи и частности на фоне тотального неприятия протестантами самих оснований позднесредневековой
культуры. Никаких последних оснований ни у кого Ренессанс отвергать не собирался. Он кок бы говорил: «То, на чем вы настаиваете, это, конечно, хорошо, но смотрите, можно еще н по-другому. Стоит ли так уж непримиримо держаться за собственную позицию, отвергая все другие*. Да, стоит, отвечала Реформация. Ведь речь идет не просто о делах и мнениях человеческих, а о Боге, о спасении или вечной погибели души.
Со всей отчетливостью несовместимость Возрождения и Реформации проявлялась не только в противоположности доктрин, но и в том, как те и другие относились к своим доктринам. Протестантизм стремился раз и навсегда выработать и отстоять новую доктрину, которую он принимал, правда, за изначальные истины христианства, в то время как для гуманиста важнее всяких доктрин оставался сам человек. Представим себе, если он божествен, то никакой безоговорочной истины и реальности ему искать не надо. Безусловная истина и реальность заключены в человеке, он их выражает самим своим существованием. Пожалуй, гуманист мог бы сказать о себе, что истина, если под ней понимать точки зрения и жизненные позиции, принадлежит человеку, а не человек истине. Протестант же был уверен в существовании Истины, исходящей от Бога и самой являющейся Богом, поэтому он готов был служить ей и отдать всего себя. Понятно, что договориться протестанту с гуманистом было невозможно. Говоря вроде бы об одном и том же, они вкладывали в свои слова исходно разные смыслы и слышали у оппонента вовсе не то, что он хотел сказать.
Полное взаимное непонимание возрожденческого гуманизма и протестантизма проявилось в знаменитой полемике между крупнейшим гуманистом начала XVI века Эразмом Роттердамским и Мартином Лютером. Эразм был на четырнадцать лет старше Лютера и успел приобрести всеевропейскую известность в то время, когда его будущий оппонент и противник оставался скромным провинциальным преподавателем теологии. В 20-х годах XVI века ситуация переменилась. Властителю дум ренессансных гуманистов противостоял вождь Реформации. Полемика между ними состоялась в 1524-1525 годах и заключалась в том, что первоначально Эразм Роттердамский выпустил свою работу «Диатриба, или Рассуждение о свободе воли», которая была адресована Лютеру, а затем, вскорости, Лютер ответил Эразму своим полемическим трактатом «О рабстве воли*. Если судить тоЛько по названиям трактатов, очевидна противоположность позиций двух авторов. Следует отметить, что гуманизм Эразма Роттердамского носил умеренный характер. В отличие от своих итальянских собратьев он никогда не пел гимнов достоинству человека и, тем более, не славил его божественности. И все-таки полный отказ человеку в свободе его воли, в самостоятельном, исходящем из себя бытии для гуманиста совершенно невозможен, он подрывает сами его основа-1 ния. С другой стороны, для Лютера признание свободы человеческой воли означало бы отрешение от Бога, греховное и кощунственное превознесение падшего человека. Договориться по существу дела у Эразма и Лютера не было оснований. Но вот как приступает к полемике каждый из них.
Эразм Роттердамский в начале своей «Диатрибы* следующим образом характеризует свою предстоящую полемику с Лютером: «Мне кажется, я понял, о чем толкует Лютер, но мое мнение меня обманывает; поэтому я хочу быть собеседником, а не судьей, исследователем, а не основоположником; я готов учиться у каждого, кто предлагает что-то более правильное и достоверное, хотя я охотно советовался бы и с людьми среднего ума; в вопросах такого рода не следует спорить так упрямо; это больше вредит христианскому согласию, чем помогает благочестию*.3
В свою очередь, Мартин Лютер как будто не слышит обращенного к нему призыва Эразма: «...откинувший словесные увертки, не умудренный в красноречии, благодатью Божьей я умудрен в знании дела. Поэтому вместе с апостолом Павлом я беру на себя смелость
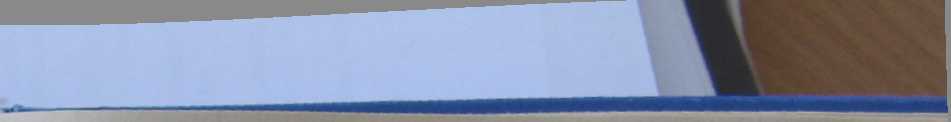
|
себе приписать знание, а тебе с уверенностью в нем отказать. За тобой я признал бы красноречие и талант, а себе — по долгу и по доброй воле — как раз отказал бы в них* *.
Гуманист Эразм предлагает Лютеру беседу двух людей, у каждого из которых могут быть свои человеческие слабости и несовершенства. У него и следа нет взаимного самовозве- личивания, присущего переписке Пико делла Мирандолы и Эрмолао Барбаро, потому что он предлагает двум людям в меру своего человеческого разумения исследовать доступную человеку истину. Как раз такая позиция Лютером отвергается с порога. Он собирается вовсе не исследовать проблему свободы воли вместе с Эразмом, а судить его самым суровым судом. Такое право Лютер признает за собой ввиду того, что ощущает в себе действие благодати Божией. Если Эразм пишет свою «Диатрибу» от своего собственного лица, то Лютер ниспровергает ее своим трактатом «О рабстве воли» как бы от лица Бога. Нечего и говорить, что каждый из них останется при своем мнении. Эразм Роттердамский ужаснется слепоте и догматизму Лютера, Лютер же заклеймит Эразма как врага веры. В их лице Возрождение и Реформация противопоставят себя друг другу и разойдутся в разные стороны.
Впрочем, еще одна, не менее знаменитая, чем полемика Эразма и Лютера, встреча Реформации и Возрождения, состоялась в 1553 году. На этот раз встретились реформатор Жан Кальвин и испанский гуманист Мигель Сервет. Когда-то они полемизировали между собой на ученом диспуте. Теперь же Жан Кальвин возглавлял теократический режим в Женеве, куда проездом прибыл Мигель Сервет. Это прибытие стоило ему жизни. По распоряжению своего давнего оппонента он был схвачен, неоднократно допрошен и увещеваем в тюрьме и, наконец, торжественно, вполне на католический манер, сожжен на Шампельском поле под Женевой. Сжигая Сервета, Кальвин, так же как и Лютер, был убежден в том, что он имеет право на суд, что он «умудрен благодатью Божьею», в то время как его противник противостоит вовсе не ему, человеку, а самому Богу.
При всей противоположности и несовместимости Возрождения и Реформации, при том, что Реформация противостояла не только католицизму, но и Возрождению, между ними была еще и существенная общность. Они сходились на почве зарождавшегося в это время новоевропейского индивидуализма, хотя и представляли собой его различные версии и полюса. Ренессансный индивидуализм состоял в ощущении человеком себя в качестве источника и последнего основания своих действий. Это был индивидуализм творца, который воспринимает мир в качестве пространства собственных преобразовательных усилий. Себя человек Возрождения тоже должен создать, актуализировав заложенные в нем потенции. У него есть долг перед самим собой. Сам для себя он является высшей целью, над которой ренессансный человек неустанно трудится. Если мерки ренессансного человека приложить к протестанту, то никакого индивидуализма в нем не обнаружить. Тем более, что сами протестанты отрицали ренессансный индивидуализм и как могли с ним боролись.
В текстах, принадлежащих зачинателям Реформации, не найти строк, не только превозносящих самоутверждение индивида, но хотя бы только говорящих о его достоинстве. Какое уж тут достоинство, если, по словам Лютера, человек ни одного мгновения не может прожить, действуя своими собственными силами. И не самоутверждение и горделивая уверенность в себе пристала человеку, стремящемуся к святости и спасению, а нечто прямо противоположное: «Бог доподлинно обещал свою благодать смиренным, то есть тем, кто поверил в свою погибель и отчаялся в себе. Однако человек не может полностью смириться до той поры, пока он не знает, что его спасение нисколько не зависит от его собственных усилий, стремлений, воли или деяния, а целиком зависит от воли... другого, а именно от одного лишь Бога»5. Буквально понятые слова первого протестанта (а они бесконечно варьируются в различных текстах не только Лютера, но и других видных деятелей Реформации)
сразу же и начисто закрывают тему индивидуализма применительно к протестантизму. Однако вопрос не решается так просто и однозначно. Слишком многое и существенное в Реформации вновь и вновь заставляет нас вспомнить об индивидуальном и индивидуалистическом самоутверждении.
Действительно, Лютер, а несколько позднее Кальвин и другие реформаторы утверждают полную неосновательность каких-либо претензий человека хотя бы на относительную самостоятельность. Однако отрицание ими всякого подобия индивидуально самостоятельного в человеке происходит на онтологическом уровне. С глубочайшей серьезностью и вдохновением Лютер и другие реформаторы говорят о полном недостоинстве человека перед лицом Бога. В соотнесенности с Богом человека просто нет. Повторюсь — это онтология. Психологически же все обстоит совсем иначе. Преисполненному уверенности в своем бы- тийственном ничтожестве Лютеру ничто не помешало, тем не менее, произнести на имперском суде в Вормсе свои знаменитые слова, в которых можно найти что угодно, только не смирение раба Божия: «Если не докажут мне из Священного Писания, что я заблуждаюсь, то совесть моя Словом Божьим останется связанной. Ни Папе, ни Собранию я не верю, потому что ясно как день, что слишком часто они заблуждались и сами себе противоречили. Нет, я не могу и не хочу отречься ни от чего, потому что небезопасно и нехорошо делать что-либо против совести. Вот я Здесь стою; я не могу иначе. Бог да поможет мне! Аминь».8
Конечно, оценивая сказанное Лютером, можно сослаться на то, что он ощущал себя орудием Бога, действовал в сознании своей избранности и предназначенности к осуществлению предопределенного Богом. Пускай так. Но сосуд избранный может ведь ощущать в себе различие между собой и собственной малостью, с одной стороны, и тем несопоставимым с ним по величию и достоинству, что в нем содержится, с другой стороны. У Лютера такое различие незаметно. Стилистика его речи очень характерна: «...докажет мне, что Я заблуждаюсь», «...совесть моя», «...Я не верю», «...Я не могу и не хочу», «...Я здесь стою», «...Я не могу иначе», «...Бог да поможет мне[106]. О ком и о чем, в самом деле, речь у доктора Лютера: О Боге и вероучении? О его отношении с ним? О том и о другом в их слитности. Лютер излагает свое credo, то, как он понимает истины Откровения, и это его понимание совпадает для него с самой истиной. От онтологического ничтожества человеческой природы не остается и следа там, где человек ощущает присутствие Бога. И что Лютеру до того, что Бог при этом остается Богом, а человек — человеком. Онтологическое ничтожество человека как будто, по Лютеру, и существует только для того, чтобы тем полнее вместить в себя Бога. В человеке нет ничего своего помимо «яйности*, которая создана и существует по неизреченной милости Господа, но тем полнее в нем присутствует Бог. Для Лютера в Вормсе и наступил тот момент, когда собственная «яйность* виттенбергского профессора ничего не находила в себе помимо открытого ему Богом. «Я* оставалось своим, лютеровским, продуцировало же оно неизменно нечто божественное. Предельное самоуничижение совпало с предельным же самовоэвеличиванием.
Правоверный католик, живший уже в XX веке, Г. К. Честертон сказал об очень мало симпатичном ему Лютере: «...Лютер начал эпоху, основал нынешний мир. Именно он первым сознательно использовал свое сознание, или, как сказали бы позже, свою личность. Надо признать, что личностью он был сильной*.7 «Использовать свою личность*, по Честертону, значит сделать ее точкой отсчета в суждениях о делах веры. Далее Честертон поменяет свое отношение к Лютеру: «Я не хвалю и не браню его, разницы не будет, назовем мы его крупной личностью или просто наглецом. Ссылаясь на Писание, он вставляет слово, которого
® Мережковский Д. С. Реформаторы. Лютер. Кальвин. Паскаль. — Брюссель, 1990. С. 76.
I Честертон Г. К. Вечный человек. — М., 1991. С. 364.
там нет, и победно прибавляет: «Скажите, что так у доктора Лютера!». Вот это мы и именуем «личностью», или самоутверждением, или духом дела, или рекламой». 8
Католику Честертону и через четыреста лет после смерти Лютера неприемлемо то же, что не принимала в нем Католическая Церковь XVI века. Помимо его часто справедливой критики церкви, Лютеру недостает смирения, ощущения своей включенности в надличное единство Церкви, недостает того, что русские мыслители именовали соборностью. Те же самые индульгенции, торговля ими — это вопиющее безобразие, творившееся в Католической церкви с благословения или попустительства Пап. Но вправе ли был один из ее членов разрушать и раскалывать Церковь, если с ее состоянием не может мириться его совесть? Может ли он взять на себя суд над Церковью? Это очень большой вопрос. Лютеровский ответ на него исходил из того, что «Римскую Церковь я готов почтить со всем смирением... выше всего, что на небе и на земле, кроме Бога». Слова эти Лютер написал еще до разрыва с Католической Церковью. Но в них уже полностью выражено его отношение к Церкви. Она не связана с Христом неразрывными узами, как его мистическое тело. Есть Церковь и есть Христос. К Христу можно обращаться вне и помимо Церкви. Но кто он тогда, человек, связанный с Христом? Уединенная душа, на свой страх и риск ищущая и обретающая Бога. Это душа индивидуалиста, для которого всякие формы общения людей, даже если они связаны с Богом, — нечто вторичное и производное от индивида. Для себя он первичен и единствен, хотя и бесконечно зависит от Бога. Причем его зависимость ведет к самоуничижению паче гордости, как мы могли убедиться в случае с Лютером. Остается добавить, что здесь он не был одиночкой. Кальвин, например, мог в случае конфликта со своими противниками сказать о себе: «Бога в моем лице оскорбляют». Он также отказывался различать свое служение Богу и присутствие в нем Божией благодати. Поскольку она в Кальвине присутствует, Кальвин как бы и есть Бог, во всяком случае его местоблюститель. Конечно, это тоже индивидуализм, хотя и совсем другой, чем ренессансный. Он несовместим с ним по своим исходным основаниям и конечным результатам и все-таки имеет с ренессансным индивидуализмом то общее, что вольно или невольно возвеличивает индивида до грандиозных размеров. И индивид Возрождения, и индивид Реформации — оба оказываются равно божественны, с той только разницей, что один из них божествен в себе, другой же — в Боге, от которого перестает себя отличать.
Глава 3
РЕФОРМАЦИЯ И СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ КУЛЬТУРЫ
Культуру Нового Времени от всех других эпох и типов ее развития отличает секуляр- ный (светский, мирской) характер. Долгие тысячелетия ни о какой секулярности культуры не могло идти и речи. Первобытная культура была культом, то есть совпадала с религией и богослужением. Древневосточную культуру отличает от первобытной только изменение в самом культе, а вовсе не его преодоление. На первый взгляд может показаться, что секуляризация или некоторое ее подобие произошла в Античности. Действительно, Античность преодолела ритуал, создав явно неритуальные философию, искусство, словесность, театр. Они уже не включены в культ, создаваясь людьми и для людей. И тем не менее античная культура сохранила такие черты, которые никак не позволяют говорить о состоявшейся ее секуляризации. Прежде всего здесь нужно учитывать, что непосредственно далекие от рели- гии формы культуры сохраняли с ней родство в том отношении, что были направлены на установление и воспроизведение связи человечески-профанной и сакрально-божественной реальности. Если, скажем, античная философия плохо относилась к народной религиозности и отказывалась буквально и всерьез принимать очень многое в мифологии, она все же искала божественную мудрость, стремилась достигнуть обожения человека. Или античная скульптура. В ее рамках скульптор, создавая свое произведение, стремился пластически выразить и запечатлеть божественное. Оно присутствовало как в фигуре божества, так и в фигуре человека. Та же самая ситуация сохранялась в античном полисе и его жизни как целом. Да, полис для грека и римлянина был общением свободных граждан. Но в то же время сами эти граждане в полисной жизни достигали божественности. Своей деятельностью и общением они были причастны божественности полиса и формировали ее. Примеры сохраняющейся связи античной культуры со сферой сакрального и устремленности к нему могут быть умножены. Все они так или иначе свидетельствуют об одном. О том, что при всех импульсах и подвижках в сторону секуляризации, при всей видимой десакрализации каких- то ее сфер и проявлений, античная культура как целая секулярной так и не стала. Что касается средневековой культуры, то с ней все достаточно очевидно. Она была церковной, а следовательно, момент связи профанной реальности с реальностью сакральной в ней был отчетливо выражен и постоянно присутствовал. Наступившая в Новое Время секуляризация культуры — феномен исторически уникальный и происшедший не вдруг. К ней вели два пути, одним из которых было Возрождение, другим — Реформация.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 545;
