КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 44 страница
Очевидно, что в данном случае перед нами феномен низовой культуры, текстуально воплощенное карнавальное и смеховое мироотношение. В мире героев новелл «Декамерона» все до предела снижено и включено в смеховую стихию. Жизненные положения, которые легко могли стать драматическими, напряженными и приобрести мрачный колорит, разыгрываются весело и непринужденно, они смешны, забавны, и только. Смешное здесь — от принятия человеком самого себя во всех своих проявлениях. О героях своих новелл Боккач- чо мог бы сказать словами известного афоризма: «Они люди, и ничто человеческое им не чуждо». И самое «низкое» в человеке — это тоже человек. «Низкое» тем самым для автора «Декамерона» вовсе не низменно. Оно именно «низкое», которому по контрасту может быть противопоставлено «высокое» в том же «Декамероне». К примеру, в новелле о короле Карле Старшем «король полюбил одну девушку; устыдившись своего безрассудства, он приискивает для нее и ее сестры приличную партию». Еще более возвышенная и благородная душа у короля Педро. Он «узнает о том, что больная девушка Лиза пламенно его любит; он успокаивает ее, а немного погодя выдает замуж за благородного юношу, целует ее в лоб и с того дня именует себя ее рыцарем».
На первый взгляд может показаться, что новеллы Боккаччо населяют люди совсем разной породы, принадлежащие к различным мирам. Одни из них — само благородство, других отличают самые элементарные устремления и вожделения, несмотря на то, что удовлетворяют они их со всем хитроумием и изощренностью. В действительности мир героев Боккаччо един. В нем всякое случается и обитают всякие люди. «И такое бывает с людьми», — как будто примиряюще говорит нам автор после очередной новеллы. Даже в новелле о двух семейных парах, установивших между собой двоеженство и двоемужие, акцент сделан не на безобразии и непотребстве случившегося, а на том, что даже безнадежную ситуацию супружеской измены и мести, которая ничем не лучше измены, можно разрешить к всеобщему удовлетворению, сохранив в себе что-то человеческое. Откуда же в этом случае у автора «Декамерона» такое приятие
человека? Почему для него оказывается равно приемлемым и смеховое, связанное с низовой культурой отношение к человеку, и возвышенный взгляд на него?
Не в последнюю очередь — от представления о человеке, которое сформировалось у ренессансных гуманистов под воздействием Античности. В соответствии с этим представлением человек является микрокосмом, малым подобием большого космоса — макрокосма. В качестве природно-космического существа он так же многообразен, как и космос-природа. Человек может достигать гармонии в отношении к самому себе и внешнему миру, может вступать в противоречие или конфликты с собой и миром. В любом случае он остается существом, которое соотнесено с миром, погружено в него и как будто не ведает о своей греховной природе, о необходимости ее преодоления. И на вершине счастья, и в самых страшных жизненных катастрофах человек ощущает себя вне связи с Богом. Поэтому он сам задает мерку своим поступкам, для него нет бездонной пропасти греха и погибели души, так же как ему ни о чем не говорит перспектива райского блаженства. Строго говоря, для человека не существует в абсолютном и незыблемом смысле ни «рая», ни «ада». Прежде всего существует он сам, во всех своих проявлениях, которые прежде всего человечны и уж потом хороши или дурны. Сказать, что ренессансное представление о человеке принадлежит Античности, целиком заимствовано оттуда, было бы неверным. Главное, что сближает его с античным, — это посюсторонний взгляд на человека, его понимание как природного существа. Сама посюсторонность и в том и в другом случае осмысляется вполне своеобразно. Античные мотивы усваиваются Возрождением избирательно, главное же состоит в том, что они включаются в совсем не античный контекст. В частности, для Античности в посюсторонности человека чрезвычайно важным был момент того, что человек может быть божествен, но может быть и ничтожным. Изначально он на одном полюсе герой, на другом — раб. Ренессансному гуманизму подобные акценты чужды. Он склонен принимать человека как такового, не проводя разделительной линий между людьми. Они божественны по самой своей природе. Кому-то удается раскрывать свою божественность, кому-то — нет. Кто-то оказывается победителем, кто-то побежденным. Человек же в своей основе един, у него нет дистанции по отношению к самому себе, нет и разделения людей на бытийственно лучших и худших.
Глава 2 ДВИЖЕНИЕ ГУМАНИСТОВ
Движение гуманистов зародилось в Италии в XIV веке. Принадлежность к нему определяется особым интересом к Античности, поиском, изучением и комментированием античных рукописей. Первоначально гуманист — это человек, который воспринимал Античность как свою духовную родину и испытывал по отношению к ней ностальгическое чувство. В принципе и человек совершенно србдневекового склада мог с почтением относиться к античной культуре и ее великим деятелям. Но для него Античность оставалась языческой мудростью, которая чем-то может быть полезна христианину, но самостоятельной ценностью не обладала. Для гуманиста традиционно средневековое представление становится недействительным. Он стремится подражать Античности и в этом обрести себя и свое достойное поприще. Не так уж редки были случаи, когда ученые-гуманисты старались жить [и выражать себя буквально на античный манер. Но, с другой стороны, ни к какому возвращению, реставрации Античности движение гуманистов не привело и привести не могло. Античные штудии гуманистов завершились совсем другим результатом. Этот результат фиксируется уже самим словом «гуманизм». Оно получило широкие права гражданства только в XVIII веке, и прежде всего в трактате Гердера «Идеи к философии истории человечества», и в эпоху, когда формировался и расцвел Ренессанс, не употреблялось. Однако слово «гуманизм» очень точно и емко характеризует то новое и своеобразное, что создало Возрождение в своей обращенности к старому, некогда существовавшему и сохранившему неотразимую привлекательность для потомков.
Как уже отмечалось, гуманизм не сводится к любви к человеку. Самое существенное в гуманизме — это направленность человека на самого себя. Для гуманистов человек есть высшая и последняя реальность, его главная жизненная задача — очеловечить себя, стать человеком во всей полноте своей человечности. Эту человечность гуманисты видели воплощенной в античном человеке. Для них он был человеком по преимуществу. Сегодня нам кажется чем-то очень обыкновенным то обстоятельство, что представители одной эпохи видят образец для себя в представителях другой эпохи. В действительности для XIV-XVI веков такая позиция была совсем необычной. Ведь отношение гуманистов к древним грекам и римлянам не совпадало, скажем, с отношением самих греков и римлян к своим потомкам. Например, греки времен классики почитали героев гомеровского эпоса как реально живших людей. Но их почитание основывалось на том, что все эти Ахиллесы, Аяксы и Одиссеи были божественны в гораздо большей степени, чем Фемистоклы, Мильтиады и Периклы. К первым относились как к полубогам, ко вторым же как просто и только людям. Совсем иное дело ренессансные гуманисты, которые не считали и не могли считать, что греки и римляне стояли к богам ближе, чем они сами. Как-никак античные люди были язычниками в отличие от христиан-гуманистов. Поэтому Платоном и Гомером, Цицероном и Сенекой последние восхищались именно как людьми и видели у них человеческие достоинства, вызывавшие поклонение. Такое отношение к античным людям проявилось уже у непосредственного предшественника ренессансных гуманистов — Данте Алигьери. С одной стороны, он сознает, что античные мудрецы, поэты и государственные деятели были язычниками, свет Христова учения им был недоступен, почему Данте и помещает их после смерти в первый круг ада — лимб. Здесь находятся и Юлий Цезарь, и Платон, и Эвклид и многие другие знаменитые греки и римляне. Максимум, что может допустить для них великий флорентийский поэт — это избавить от адских мук. Но, с другой стороны, Данте восхищается греками и римлянами. Вергилий является в «Божественной комедии» не только его проводником в аду и чистилище. Он еще и почитаемый учитель, чей авторитет для Данте безусловен. В дантовской теме присутствует неразрешимое противоречие и двойственность в отношении поэта к грекам и римлянам. С религиозных позиций он вынужден греков и римлян умалять, с других же (их может назвать гуманистическими) позиций они для Данте лучшие, наиболее достойные из людей. В чем же тогда достоинство славных мужей древности, если они пребывали во тьме язычества и Бог не открылся им? В том, что у выдающихся греков и римлян в наибольшей степени проявлена их человечность — humanitas. Оказывается, что человечность человека — это одно, а его связь с Вогом — другое. Последняя необходима для спасения, тогда как первая ценна сама по себе, вне зависимости от ее соотнесенности с Богом.
Почитание гуманистами греков и римлян, несмотря на их язычество, только подчеркивало то, что они видели в греках и римлянах людей и только людей и восхищались ими как людьми и только людьми. Человеческое для гуманистов было достойно восхищения и поклонения само по себе. С подобным утверждением самые почитаемые греки и римляне, пожалуй бы, не согласились. Они восхищались своими соотечественниками и поклонялись им лишь в меру их божественности, то есть близости и причастности миру богов. Такая близость и причастность могли заходить так далеко, что человек становился в глазах греков и римлян богом и ему отдавали божеские почести, как эллинистическим царям или римским императорам. Или же, что бывало чаще, человек вызывал поклонение и восхищение
тем, что ему покровительствовали боги. За это, например, воспевал победителей Олимпийских игр величайший древнеримский лирик Пиндар в своих одах. Вот отрывок одной из них, в которой поэт обращается к победителю в беге колесниц сиракузскому тирану Гиерону: «Я знаю: / Никого из ныне живущих, / Столь искушенного в прекрасном, столь / превосходного в могуществе, /
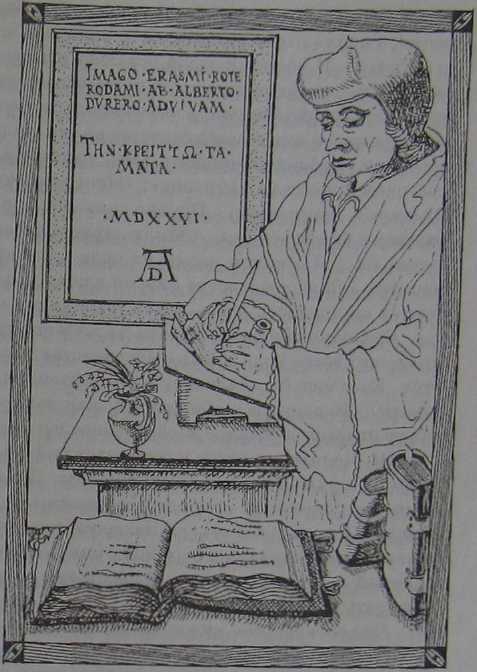 Не прославим мы складками наших песен; /
Не прославим мы складками наших песен; /
Некий бог, пекущийся о твоих помышлениях, / Бдит и над этим твоим призванием,
I Гиерон. / Если он не оставит тебя — / Я верю, что я вновь еще сладостней прославлю /
I Стремительную твою колесницу...» 3
Ода Пиндара наглядно демонстрирует нам, что нет ничего более разного и несовме- I стимого, чем поклонение гуманистов грекам I и римлянам и поклонение самих греков и римлян своим соотечественникам. Одни видят в греках и римлянах исключительно I людей и поклоняются в них человеческому, другие же, даже если и восхищены людьми,
! то лишь потому, что они как-то связаны с богами. Таким образом, взгляд гуманистов на Античность вовсе не совпадает с взглядом Античности на самое себя, а значит, гуманисты ни в какие античные времена не возвращались. Они создавали культуру, по существу в корне отличную от античной и в то же время не мыслимую вне своей обращенности к Античности, потому что эта обращенность формировала гуманизм.
Если использовать привычные и стандартные формулы, то гуманизм отличается от античного мировосприятия тем, что он антропоцентричен, в то время как последнее космоцен- трично. Антропоцентризм предполагает центральное положение человека в мире, замкнутость человека на себя и замыкание мира на себя же. Космоцентризм в его смысловом пределе выражен в цитировавшихся уже словах из приведенного ранее рассказа Геродота
о беседе Солона и Креза: «смерть для людей лучше, чем жизнь», она «высшее благо, доступное людям». За этими словами стоит представление о периферийности индивидуально-человеческого существования, его неукореннености в первоосновах космической жизни, о том, что человек подлинно бытийствует, только растворившись в космическом целом. К античному космоцентризму ренессансные гуманисты были нечувствительны, они искали у греков и римлян близкое их собственным устремлениям и находили его в античных представлениях о божественности человека, о том, что человек может быть божествен. Однако сама эта божественность истолковывалась гуманистами совсем на иной лад, чем в Античности.
Все-таки античный грек всегда помнил, что человеку предшествовали поколения богов и полубогов-героев, что появление людей изначально и радикально двусмысленно. Их возникновение стало результатом соперничества между Зевсом и титаном Прометеем. По одной версии мифа, Прометей вылепил людей из глины вопреки воле верховного божества —
евса. К тому же он обманным путем добыл людям принадлежавший Зевсу огонь. Обладание огнем, умение нм пользоваться приблизило людей к богам, сделало их причастными божественности. И все-таки люди остались существами земными («глиняными»), профаннымн, смертными, их божественность не преодолевает разведенность между богами и людьми. Человек, даже божественны», должен знать свое очень скромное место в мире. Конечно, в античных текстах и античном искусстве не так уж редко можно встретить живое ощущение человеком своей божественности. Оно, например, присутствует в знаменитых словах хора из трагедии Софокла «Антигона»: «Много рсть.чудес на свете, / Человек — их всех чудесней. / Он зимою через море / Правит путь под бурным ветром / И плывет, переправляясь / По ревущим вкруг волнам. / Землю, древнюю богиню, / Что в веках неутомима, / Год за годом мучит он / И с конем своим на поле / Всюду борозды ведет. /.../ Все он умеет; от всякой напасти / Верное средство себе он нашел. / Знает лекарства он против болезней, / Но лишь почует он близость Аида, / Как понапрасну на помощь зовет /». |
Софокловский текст почти на всем его протяжении звучит вполне в ренессансном духе, это тоже своего рода «Речь о достоинстве человека». Однако как знаменательно она обрывается. Казалось бы, человеку в его дерзаниях, деяниях и помыслах нет и не будет никаких преград. И вдруг все обрывается: как только хор вспоминает о «близости Аида», человек превращается в жалкое и обреченное существо. Ему положен неумолимый предел смерти- судьбы. Человек смертен и божественный замах ему не по плечу, несмотря на всю его несомненную и для Софокла божественность. Пределы, положенные божественному человеку его земной, «глиняной» природой, выражены в цитировавшейся уже оде Пиндара, посвященной Гиерону Сиракузскому. Она завершается такими знаменательными строками в честь божественного победителя в беге колесниц: «Разным людям — разное величие; / Высочайшее из величий — венчает царей; / О, не стреми свои взоры еще выше! / Будь твоей долей — / Ныне попирать вершины... /».[97]
Что совершенно чуждо ренессансному человеку и, в частности, гуманисту, так это призыв Пиндара «не стремить свои взоры выше*. Он-то как раз и не ощущает пределов, заданных человеку наличием'богов и неумолимо зачеркивающей его судьбы. Среди ренессансных текстов, принадлежащих перу гуманистов, есть немало таких, которые очень напоминают приведенный нами в извлечениях софокловский текст. До некоторой степени гимны человеку в духе Софокла стали в конце XV-XVII веках общим местом. Один из таких «гимнов* принадлежит знаменитому утописту Томазо Кампанелле. Он жил в период, когда Ренессанс был на излете, переживал свою кризисную пору. В Италии же кризис гуманизма был особенно очевиден. Фигура Т. Кампанеллы тем и интересна, ,что на одном полюсе своего творчества он все еще гуманист, причем в экстремистском варианте, на другом же — критик и ниспровергатель гуманизма. В качестве безудержного гуманиста Кампаиелла предстает в своем трактате «Метафизика», где есть раздел, озаглавленный «О превосходстве человека над животными и о божественности его души». Весь он посвящен восхвалению человека. По Кампанелле, «нет ничего в мире, что не было бы подчинено его деятельности... человек укрощает ветры и побеждает моря... плавает с,рыбаки, с помощью дерева уверенно движется через море, подражает всей природе и Богу... в величайшей мере доказывает божественность человека астрономия... божественность человека раскрывает нам магия... о божественности человека свидетельствуют и предсказательные искусства-..... подобно Богу человек предвидит будущее»8 и т. д. и т. п. Текст Кампанеллы на протяжении почти всего раздела «Метафизики» воспринимается как своего рода расширенный варцант речи хора из софокловской «Ая- тигоны». Лишь самые последние строки текста обнаруживают всю грандиозность разницы
между духом гуманизма и теми античными образцами, которым гуманисты искренне стремились следовать:
«Человек ведь в желаниях своих не останавливается на вещах этого мира, и, наслаждаясь обладанием царств, он желает еще большего — возвыситься над небом и миром и захватить бесчисленные миры. Этого не было бы в душе, если бы она на деле не была бы порождением бесконечной сущности — подобно тому, как огонь стремится сжечь и захватить бесконечные вещи и распространиться в бесконечность, обладая этим стремлением постольку, поскольку он есть результат бесконечного Творца». 7
Божественности человека, как видим, Кампаиелла в отличие от Софокла никаких границ не полагает. Для него как будто нет ни необоримой силы судьбы, ни божественной реальности, в которой нуждается или которой поклоняется человек. Для греков и римлян желание человека «возвыситься над небом и миром» выглядело бы пагубным кощунством и безумием. Даже Александру Македонскому приписывали всего лишь сожаление о том, что нет других миров, которые он мог бы завоевать. К штурму неба он не готовился и о нем не мечтал. Откуда же в таком случае у Кампанеллы такая титаническая заявка и такой замах?
Дело здесь в том, что Кампанелла никакой дистанции между божественностью человека и Божественностью Бога и не признает. Греки и римляне божественных людей и богов еще как отличали. Конечно, божественный человек мог стать богом, но пока он остается человеком, для него непреложна обязанность чтить богов и не посягать на их роль и права. По Кампанелле, человек — «порождение бесконечной сущности», т. е. Бога. И здесь очень |важно не упустить из внимания два момента. Во-первых, то, что Бог понимается Кампанел- [лой уже не в античном смысле, как бы среди богов и к тому же подвластный судьбе, а в качестве высшей и последней реальности, обладающей безграничной творческой мощью. Очевидно, что в этом случае он опирается на опыт христианства. И второе, называя человека «порождением бесконечной сущности» или «результатом бесконечного» Творца, Кампанелла на этот раз полностью расходится с христианской доктриной. В соответствии с ней человек вовсе не рождается от Бога, а творится им из ничто. Хотя сотворен он как образ и подобие Божие, все же между Богом и человеком пропасть. Человек сам, по своей собственной И природе, никакой божественностью не обладает, его природа рабская, так как он вышел из I небытия. Утверждая порождение человека Богом, Кампанелла тем самым утверждает глу- I шшное тождество человека и Бога, их одноприродность. Если же они тождественны и одно- I природны, то и границы божественной мощи человеку никто не устанавливал. Божествен- I ность человека состоит в том, что он и есть бог, человеческой божественности на античный
■ манер ему теперь мало.
Образ человека-бога, который создает Кампанелла в своем трактате в начале XVII века,
■ к этому времени был в значительной степени дискредитирован и потерял свою убедитель- I ность, «золотой Век» Ренессанса к тому времени был уже давно позади. Совсем иной была В ситуация, в которой Пико делла Мирандола создавал свою «Речь о достоинстве человека». I Она была написана в 1486 году и представляла собой краткое и энергичное изложение основ I нового гуманистического мировоззрения. И как никакой другой текст эпохи Возрождения,
■ «Речь..» может быть названа манифестом ренессансного гуманизма. В чем же видит Пико I делла Мирандола то самое «достоинство человека», которое является темой его трактата?
Оказывается, у итальянского гуманиста для определения достоинства человека чрез- I яьгчайно важным является его сопоставление с ангелами. Это для современного человека
■ слова «ангельская иерархия» звучат чуть ли не сказочно или условно-метафизически. Для I средневековых же людей ангелы были такой же очевидной реальностью, как и сами люди.
К Вог сотворил два мира, Он «Творец видимых и невидимых». Причем невидимые, то есть
ангелы, были сотворены до человека и могут, в отличие от него, находиться в непосредственной близости. Люди, веря в существования ангелов, тем самым знали, что им не следует преувеличивать свое место и свою речь в тварном мире. Человек — образ и подобие Бога, по благодати (не по природе) он сын Божий. Но ему очень далеко до актуального пребывания в Боге. Есть существа более высокого порядка. Они от века удостоены чести лицезреть Бога. Не только человек — образ и подобие Божие. Средневековый византийский богослов Иоанн Дамаскин говорит об ангелах, что Бог создал их по образу Своему бестелесною природою. Но тут же он добавляет: бестелесна ангельская природа по сравнению с нами, людьми, потому, что «одно только Божество по истине — невещественно и бестелесно». Тем не менее ангелы своей бестелесностью ближе к божественной природе, чем человек. Об этом Иоанн Дамаскин говорит со всей возможной определенностью: «Вообще же и по божественной воле, и по божественному повелению они — выше нас и всегда находятся около Бога». Высказывание Иоанна Дамаскина еще самое умеренное из числа суждений о соотношении ангельской и человеческой природы. У святых отцов, вообще в богословской литературе, можно встретить мысль о том, что все человеческое бесконечно умалено по сравнению с ангельским. Тут вполне реален и допустим известный разброс мнений и оценок. Но давайте посмотрим, о чем говорит сравнение человеческой и ангельской природы у Пико делла Мирандола в центральной для него и для всего Возрождения работе «Речь о достоинстве человека»."
В самом начале «Речи...» Пико делает вроде бы вполне традиционное для христианина утверждение: «Человек есть посредник между всеми созданиями, близкий к высшим н господин над низшими... стоящий немного ниже ангелов, по свидетельству Давида». Все правильно, в восьмом псалме Давидовом о человеке говорится: «Не много Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его. Поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил под ноги его».[98] Настораживает одно только словечко «посредник». Человек — посредник между природой и сверхприродным ангельским миром, он посередине, в центре. Что-то здесь не то. И действительно, чуть ниже Мирандола вопрошает: «Почему же мы не восхищаемся в большей степени ангелами и прекрасными небесными хорами?» И человеку уготован жребий, «завидный не только для животных, но и для звезд и потусторонних душ», т. е. для ангелов. Вскорости все проясняется с достаточной определенностью. Пико делла Мирандола вкладывает в уста Бога такие обращенные к человеку слова: «Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира... Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь». Здесь проговаривается самое главное, хотя и не все. Человек — творец самого себя. Ему дано божественное достоинство. Куда там ангелам. Высшие духи либо сразу, либо чуть позже становятся тем, чем будут в вечном бессмертии.
У них нет самого главного — божественной творческой мощи. Они выше человека, так как ближе к Богу. Но у Пико делла Мирандолы сопряжены две логики. Логика актуального (тогда выше ангелы) и логика возможного, потенциального (тогда выше человек). В возможности человек не только то, что ниже человека, то есть животное, и не только то, что выше его, то есть ангел. В последнем пределе человек и есть Бог. Если человек захочет то «вернется к своей изначальной единичности и, став духом единым с Богом в уединенной мгле Отц*. Который стоит над всем, будет превосходить всех». Воистину, наш автор начал за упокой, а кончил за здравие. Никому себя не противопоставляя, вовсе не стремясь опровергнуть
иудео-христианскую традицию, он договаривается до вещей немыслимых для христианина. Вначале Пико делла Мирандола потеснил ангелов, потом он, как и Кампанелла, отождествил человека и Бога.
Человеку Мирандолы предстоит путь вовсе не искупления первородного греха, не служения и смирения. Человек должен созидать себя и свой мир. Он создан Богом как чистая возможность, как ничто< которое станет всем. Если уж договаривать до конца, то Бог создал человека... Богом. По своему это укоренено в христианстве. Человеку предстоит обожение как изживание своей падшести. Не то у Мирандолы. У него человек осуществляет не путь самопреодоления, а путь самореализации.
Пико делла Мирандола по существу пытается задушить христианство в своих объятиях, смещая акценты, замалчивая или забывая одно, выпячивая другое, теряя всякую чувствительность к третьему. В этом отношении он не исключение, а скорее типичная фигура. Гуманистам (и Пико делла Мирандола, в частности) предстоял образ какой-то всеобъемлющей мудрости, вместившей в себя то, что создавалось на протяжении тысячелетий в различ- I ных уголках земли. Они отдают должное античным грекам и римлянам, арабам, халдеям.
: Христианство оказывается в ряду других учений и должно быть включено во всеобъемлю- ! щее целое. В каждом учении, у каждого автора есть нечто свое, что ему удалось лучше других. Ничто не должно быть оставлено без внимания, и вот Пико делла Мирандола вы- ! двигает «900 тезисов*, касающихся философии, каббалистики, теологии. Эти тезисы он ! выдвинул для публичного диспута в Риме в 1486 году. Созданная папой Иннокентием VIII I комиссия теологов в начале 1487 года признала ряд тезисов еретическими и диспут был I запрещен.
Представим себе, что Пико делла Мирандола предлагает программу обсуждения всего и вся с тем, чтобы здесь и теперь обрести абсолютную истину. Истину, к которой предшественники только подступали, выражая ее частично и односторонне. В своей «Речи о досто-
■ инстве человека» он теснит ангелов, обожествляет человека. В «Тезисах» же Пико делла Мирандола стремится божественную истину замкнуть на себя. Божествен человек как тако- ! вой. Он, будучи ничем, может стать всем, он творец самого себя, а я бы сказал — бог самого | себя. И здесь у Мирандолы проступает характерно ренессансное: божественные потенции человека актуализируются именно сегодня. Современность наделяется высшим достоинством. Если человек — центр мироздания, а центр — это ключевая точка (не верх и тем более не | низ), то современный человек достигает высшей человечности, именно он делает действительным центральное положение человека в мироздании. Точнее, подобное дело становится ему по плечу.
Такое уже было однажды в истории, когда современность наделялась достоинством «золотого века*. Это императорская эпоха Рима. Тогда императоры, начиная с Октавиана Августа, провозгласили наличие идеального состояния в римском мире. За этим стояла исчерпанность римской идеи, базировавшейся на экспансии, поглощении мира Римом. Римская идея была государственной. Возрожденческое ощущение «золотого века» покоится совсем на иных основаниях. Рим обретал, присваивал, завоевывал мир. Ренессансный человек обретал самого себя, творил себя и свой мир. Римский пафос — пафос строя, порядка, оформления. Ренессансный человек не оформлял себя, а извлекал из недр добы- тия. Бог творил из ничто. Человек Возрождения заподозрил, что самое ничто творит из себя все. В том, что божественность и творческая мощь человека реализуется как раз в современности и ближайшем будущем, есть своя логика и железная последовательность. Все-таки предшествовала и сосуществовала с Ренессансом культура Позднего Средневековья, ориентированная на некоторую абсолютную заявку — святость и спасение. Человек ощущал себя укорененным в вечном и абсолютном. Абсолютная заявка не могла быть радикально устранена. Частичное и условное решение не могло прийти на смену всеобъемлющему безусловному решению. Потусторонняя ориентация сменяется посюсторонней, но посюстороннее наделяется тем же качеством, что и потустороннее. Если в святости и спасении человек обоживается, то, устраняя святость и спасение, нельзя было также устранить обожение. Можно было только помыслить его по иному, чем прежде. Теперь обожение, как уже говорилось, это самореализация. Если она доступна здесь и теперь, то зачем тогда спасение? Это гораздо позднее Возрождения, когда посюсторонность стала казаться очевид. ной и единственной реальностью, возможным стало отказаться от божественного достоинства человека или отнести осуществление его в далекое будущее. Первоначально же вопрос стоял иначе. Как понимать божественное достоинство человека? В качестве извращенного грехопадением или же в качестве еще не реализованной человеком возможности? Реализуется ли она через совпадение человеческой свободы и божественной благодати или безблагодат- ными самостоятельными усилиями? Для индивида была альтернатива: спасайся или творв себя. Так же как невозможно спасать других, не спасая себя, а для христианина это действительно невозможно, так для ренессансного человека было немыслимо творить для будущего, создавая «золотой век» отдаленным потомкам. И в этом Ренессанс был прав. Творчество других невозможно подготовить, невозможно и творить за других. Такие возможности помыслил только XIX век, а ранее — Просвещение с его идеей прогресса. Низшие не могут создать абсолютное состояние для высших, предуготовить его. Оно может быть (если может) только самодеятельностью высших — так Ренессанс не мыслил и ве проговаривал. Потому именно, что ничего иного и представить себе не мог, это было для него слишком очевидно.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 612;
