КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 27 страница
Возникший в конце VI в. до P. X. и вполне оформившийся к середине V в. до P. X. греческий театр с его помещениями, драматическими постановками, актерами и зрителями очень далеко ушел от своей ритуальной основы. Но уход здесь никогда не был разрывом. В частности, привязка театральных постановок к культу Диониса была для афинского театра обязательной. Вначале театр действовал во время афинского праздника Великих Дионисий (три дня в конце апреля — начале мая), затем с середины V в. до P. X. к Великим Дионисиям добавился также посвященный Дионису праздник Леней (январь). Очень показательно и наличие в греческом театре орхестры. Она не просто сохранилась, но и располагалась на переднем плане, оставляя задний план проскению, на котором играли актеры. С позиций здравого смысла, казалось бы, целесообразнее сделать наоборот: выдвинуть актеров вперед к театрону, а хору отдать проскений. Это было бы тем более уместно, что хор заслонял собой актеров, чьи выступления были в центре внимания зрителей. Со временем, в эпоху эллинизма, место для игры актеров будет расположено более рационально, чем в классическую эпоху, его приподнимут над орхестрой. Однако самой главной «рационализации* так и не произойдет, хор по-прежнему будет разделять театрон и проскений. Здравый смысл здесь окажется бессильным ввиду особой роли хора в греческой трагедии. До некоторой степени он был зрителем театрального представления и вместе с тем его участником. Пожалуй, хор можно определить как представителя театрона внутри пространства трагического действия. Когда-то исполнители дифирамба, находясь на орхестре, были со всех сторон окружены другими участниками ритуала. Орхестра представляла собой сердцевину ритуального пространства, а поющий дифирамб хор сосредоточивал в себе душу всех присутствующих, концентрировал своим пением смысл происходящего. По мере размельчения дифирамба единый тяготеющий к центру круга-орхестры ритуал превращался в реальность, разделенную на две взаимодополнительиые и в то же время противопоставленные части. Одна из них включала в себя проскений и актеров, другая — театрон и зрителей. В ситуации наступившей разъединенности орхестра и хор не давали театру распасться на две совершенно разнородные реальности, они делали противопоставленные части театра взаимо- дополнительными. Но не в том смысле, в каком взаимодополнительны в современном театре сцена и зрительный зал, актеры и зрители. Речь идет о том, что греческий театр сохранял в себе некоторое подобие ритуального действа. Ритуальное действие в принципе было всенародным, касалось всей общины и прямо или косвенно осуществлялось каждым членом. Всенародность театра не совпадает с всенародностью ритуала. В нем она менее выражена, чем
d ритуале, насыщена другими, не ритуальными смыслами. Состоит же всенародность театрального действия в том, что в лице хора зрители реагируют на происходящее в трагедии в качестве одного из ее персонажей. Их позиция заранее определена, точнее, учитывается драматургом. И это не одна среди других возможных позиций. Она существенна и окончательна. За ней стоят не только люди, но и боги, что отчетливо выражено наличием алтаря Диониса в самом центре орхестры. Когда-то, во времена дифирамба, этот алтарь центрировал собой все ритуальное действие, был его смысловым и пространственным центром. Теперь в театре он все еще равноудален от каждого ряда в театроне. Он остается центральной смысловой и пространственной точкой для орхестры к театрона, хора и зрителей. Алтарь Диониса их объединяет, делает единым целым. Но, с другой стороны, орхестра и хор обращены к проскению и действующим лицам трагедии, общаются с ними, каким-то образом включают их в целое театра. То целое, которое сосредоточено там, где находится алтарь Диониса. Правда, включение действующих лиц трагедии в ряды зрителей-хора — это не изначальная данность. Исходно они отделены друг от друга, потому что в трагедии действуют люди особого рода, те, кто разрывает монолитность ритуальной жизни и ведет ее к индивидуации. Понятно, что это герои. Но кто же тогда все остальные участники театрального действия, хор и зрители?
В идеале зрителем каждого театрального представления в тех же Афинах мог и должен был быть каждый гражданин. Театрон афинского театра Диониса вмещал в себя от 14 до 17 тысяч зрителей. Если исключить из числа возможных зрителей детей, больных, отсутствующих в городе и т. п., то едва ли не большая часть горожан в состоянии была посетить театр во время представлений. Тем более, что афинские власти специально выделяли деньги на оплату посещения театра неимущими. Очевидно, что в отличие от пира, на котором исполнялся эпос, театральное представление ориентировалось далеко не только на «скипт- родержавных владык» и «судей». В них отсутствовала аристократическая избирательность пиров, хотя театральные представления не были рассчитаны на рабов. Их посетитель — гражданин как таковой, а значит, в основном серединный человек, не раб, но и не герой. Серединные люди и были противопоставлены в греческом театре героям как зрители и хор — действующим лицам трагедии, противопоставлены, но и объединены театральным действием.
В эпосе в момент его исполнения на пиру дистанция между эпическими персонажами и слушателями повествования — это прежде всего соотнесенность полноты первобытия героического в правремени с пониженным в качестве бытием героического же в современности. Эпос исполнялся под знаком призыва к слушателям: будьте такими же героями, как велели предки. Трагическое действие исходит из совсем других предпосылок. Люди «золотой середины» находятся в театре совсем не для того, чтобы в перспективе стать героями или хотя бы сделать значимый шаг в сторону героизма. Зрители во время и после представления так и окажутся серединными людьми. В этом отношении в них ничего не изменится. И все-таки контакт с трагедийным миром героев у зрителей устанавливался. Оставаясь серединными людьми, они становились причастными реальности героизма. Такого рода причастность самый авторитетный и в Античности, и в следующие эпохи исследователь трагедии — Аристотель, обозначал как катарсис (очищение).
Катартический (очищающий) эффект достигается, по Аристотелю, посредством сострадания зрителей театра персонажам трагедии. Персонажи страдают на проскении, зрители сочувствуют им в театроне. Понятное дело, что в такой ситуации страдание и сострадание не должны и не могут совпадать по своей интенсивности. То, что происходит с героями трагедий, совершается раз и навсегда, захватывает глубину и целостность их существа. Страдая, они очищаются ценой невероятных мучений и гибели, охваченные всепожирающим пламенем. Очищение присутствующих на театральном представлении — это не просто слабое подобие того настоящего очищения, оно еще и производится за чужой счет. Страдают на сцене герои для того, чтобы сострадатели разделили с ними не столько труды, сколько плоды трудов, не борьбу, а победу. Трагедийные персонажи в конечном счете добывают для внемлющих им героический пафос. Но вовсе не для того, чтобы последние стали героями. Совсем напротив, герои должны остаться героями, участники сценического участника — серединными людьми. Между ними устанавливается связь, которая, как и в мистериальном действии, соединяет несоединимое и вместе с тем оставляет за каждой из сторон связи ее собственную природу. В мистерии на ее участника нисходит благодать, что вовсе не вызывает у него кощунственного поползновения стать божеством. Точно так же в трагическом действе его участники ощущают в себе присутствие героического пафоса, оставаясь теми, кем они были. Если бы катарсис пошел дальше, то исполнение трагедии стало бы очень странным действом, в котором героические подвиги с их трагической развязкой свершались бы в душе, никак внешне не выраженные. Но и оставаясь причащением к героическому и трагическому, катарсис, в принципе, может иметь троякий эффект. Во-первых, вызывать и стимулировать героический порыв участников театрального представления, воспитывать из них героев. Во- вторых, возможна прямо противоположная реакция на героев, их подвиги и связанные с ними трагические ситуации. Она будет состоять в страхе-сострадании, завершающемся восхищением и предполагающем неустранимую дистанцию между персонажами и зрителями. В этом случае катарсис заключается в соприкосновенности и сопереживании реально недостижимому и представляет собой данность сверхчеловеческого человеческому, только человеческому. Третий катартический эффект, о котором непосредственно идет речь у Аристотеля, в отличие от первых двух предполагает предельную сближенность главных персонажей трагедии с публикой. Она должна ощутить происходящее в трагедии как нечто родственное себе, сопоставимое с собственным душевным опытом. Только узнав себя в действующем в трагедии персонаже, зритель способен испытать катарсис. Такое узнавание будет не отождествлением зрителя с героем, а прививкой героического начала к началу серединно-человеческому. Для греческого полиса она имела глубокий смысл, так как создавала единство полиса, в котором живут прежде всего граждане, и уже потом герои или люди золотой середины. Отсюда проистекает та значимость, которую придавали полисные власти немногочисленным дням театральных представлений. Их прикрепленность к праздникам, посвященным богу Дионису, придавала представлениям некое подобие сакрального действия. Причем не только формальное, но и содержательное. Об этом свидетельствует уже то, что в центре орхестры в древнегреческом театре помещался алтарь Диониса. Как и всякий другой алтарь, он представлял собой возвышение, предназначенное для жертвоприношений. Очевидно, что во время театрального представления никаких жертв Дионису не приносилось. Однако наличие алтаря тем не менее прямо указывает на то, что происходящее в театре трагическое действие имеет отношение к жертвоприношению. Трагедия в целом, конечно же, далеко к нему не сводится. Но в ее основе по-прежнему лежит принесение в жертву тех, кто выделен из общинной жизни. Правда, теперь жертва уже не пассивно-страдательна, не приносится общиной, а сама себя делает таковой. Именно самопожертвование составляет существо того шага, который впервые делает героя героем. Этот момент более или менее отчетливо выражен в любой древнегреческой трагедии. Едва ли не самая известная из них — «Царь Эдип» Софокла. Напомним, что в этой трагедии коринфскому царевичу, а затем фиванскому царю Эдипу судьбой уготована безвыходная ситуация. По предсказанию дельфийского оракула, он должен убить отца и жениться на матери. Стремясь избежать ужаса предстоящих преступлений, Эдип бежит из родного Коринфа. Но по Дороге он вступает в перепалку с незнакомым ему надменным старцем и убивает его. Прибыв в соседние Коринфу Фивы, Эдип совершает подвиг, отгадав загадку чудовища Сфинкс и тем освободив от его кровавой власти город. По праву победителя он женится на царственной вдове Иокасте. Непосредственно содержание софокловской трагедии посвящено тому, как Эдип узнает, что он вовсе не коринфянин,
I Рожден собственной женой Иокастой и к тому же убитый им по дороге в Фивы старец —
его отец. Предсказанное дельфийским оракулом свершилось, избежать судьбы Эдипу не удалось, он стал ее жертвой. Но отличие этой жертвы от обычной ритуальной в том, что она ведет не к обожениго, соединению Эдипа-человека с миром богов, а к превращению его в отвратительное чудовище, нарушившее два исходных для людей запрета — на убийство и кровосмешение. Хотя он и стремился этого избежать, Эдип стал такой же отихийной и разрушительной силой, как и сама судьба, ее достойным воплощением и выражением. Он слился не с богами, а с судьбою. Однако Эдип не был бы героем, если бы из себя как пассивной жертвы не сделал жертву, приносимую себе самим же собой, если бы страсть-страдание не переплавилась в страсть-пафос.
Первоначально полученное Эдипом знание о свершенных им бессознательно преступлениях несет ему неслыханные муки и страдания. Но тут же возникает и пафос. Он представляет собой исходящую из Эдипа внутреннюю силу и решимость. Она одушевляет его и делает свободным. Впервые пафос, предвещающий преодоление чистой страдательности, возникает в душе Эдипа, когда он в ответ на причитания пастуха, знающего тайну его рождения: «Увы, весь ужас выслушать придется», — отвечает: «А мне услышать... Все ж я слушать должен*. В этом кратком ответе зреет противостояние судьбе, готовность выдержать удар, который несет в себе открывающееся знание. Потом, когда удар судьбы нанесен, когда он узнает о том, что убил отца и женился на матери, Эдип станет корчиться в муках, проклинать себя. Но и в этих страстях-страданиях сохранится страсть-пафос. Эдип сам возьмет на себя вину за свершившееся, сознает его своей виной и в качестве достойной кары выколет себе глаза. Эдипову пафосу доступно немногое, всего лишь самоосуждение. Но, осудив себя, он отменяет судьбу. Момент его самоосуждения не страдателен, хотя он жестоко страдает, а прежде всего патетичен. В «Царе Эдипе», как ни в одной другой трагедии, проявлена одномоментность страдания и пафоса героя. Страдание доставляет последний и решительный удар судьбы, но в нем же содержится переплавка страдания в пафос. Пафос так и остается страданием, но, позволим себе так выразиться, не страдательным, а утвердительным, не претерпеваемым, а наносимым себе тем, кто способен его нанести.
Страсть — пафос героя — это его жертва себя самому себе, а значит, и счеты с самим собой. Здесь исключена ситуация обычного жертвоприношения, которое совершает община. Теперь она сведена до роли зрителя, сидящего в театроне и хора, общающегося с героем- жертвой, но в действии не участвующего. И все-таки и зрители, и хор к трагическому действию — жертвоприношению — причастны. Группируясь вокруг алтаря Диониса, они по- прежнему живут религиозным ритуалом с его жертвоприношениями, героическим переворачиванием ритуала в самопожертвовании. Но в то же время зрители и хор в сопереживании и сострадании переживающим и.страдающим героям, в катарсисе осуществляют некоторое отдаленное подобие самопожертвования. Далеко не в такой степени как герои, они тоже одушевляются героическим пафосом. Правда, для зрителей он становится не жизненной реальностью, а эстетическим переживанием. Как эпос слушателей, так и трагедия зрителей связывает с героями не через религию и ритуал, а через искусство.
Глава 8
КУЛЬТУРА ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА
В предшествующих главах, посвященных культуре Древней Греции, речь шла главным образом о греческой классике (V-IV вв. до P. X.) и частично об архаике (VIII-VI вв. Д° P. X.). Именно в архаический И, особенно, классический период древнегреческой культуры
выявилось ее своеобразие, она достигла своих вершин; Эпоха эллинизма также была по- своему творчески продуктивна, у нее были достижения, недоступные предшествующим эпохам. Но отличает ее от них кризисный характер. Это было время перелома и трансформации того, что исконно было присуще греческому духу и, казалось бы, должно было сохраниться в нем навсегда. Эллинизм принято начинать с царствования Александра Македонского (336-323 гг. до P. X.). Можно сослаться и на еще более определенную дату — 334 г. до P. X., когда Александр начал свою победоносную войну с Персидским царством. Конечно, как и всякая дата в истории культуры, 334 г. до P. X. — это достаточно условный рубеж. Переход от одной эпохи к другой никогда не бывает кратковременным, а главное, резко определенным и фиксированным. И тем не менее в походе Александра Македонского на Восток появилось новое, на протяжении предшествующих столетий для греков чуждое и неприемлемое.
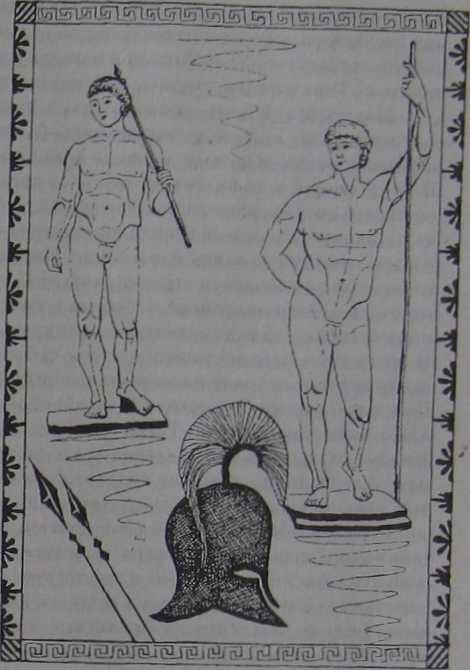 С современной, и не только современной, точки зрения завоевание Александром Персии поражает воображение в одном отношении: как это небольшое (35-40 тысяч воинов) войско, за которым стояли ресурсы государств с населением 1-2 миллиона человек, сумело за несколько лет разгромить многократно превосходящие его полчища азиатских народов и установить господство греков и македонян на пространстве в миллионы квадратных километров, населенных десятками миллионов жителей? Однако в том, что произошло в 334 г. до P. X. и ближайшие к нему годы, не менее удивительно и странно, но уже с точки зрения самих древних греков, то, что греки и македоняне вообще могли решиться на поход в Персию и ее завоевание. И не потому, что завоевательная война в Персии выглядит хотя и удачной, но авантюрной. Дело еще в том, что походы, подобные Александрову, были внутренне неприемлемы всему душевному строю греков, их восприятию мира и самих себя.
С современной, и не только современной, точки зрения завоевание Александром Персии поражает воображение в одном отношении: как это небольшое (35-40 тысяч воинов) войско, за которым стояли ресурсы государств с населением 1-2 миллиона человек, сумело за несколько лет разгромить многократно превосходящие его полчища азиатских народов и установить господство греков и македонян на пространстве в миллионы квадратных километров, населенных десятками миллионов жителей? Однако в том, что произошло в 334 г. до P. X. и ближайшие к нему годы, не менее удивительно и странно, но уже с точки зрения самих древних греков, то, что греки и македоняне вообще могли решиться на поход в Персию и ее завоевание. И не потому, что завоевательная война в Персии выглядит хотя и удачной, но авантюрной. Дело еще в том, что походы, подобные Александрову, были внутренне неприемлемы всему душевному строю греков, их восприятию мира и самих себя.
Древние греки не только предпочитали и считали для себя единственно возможным жить в относительно небольших и обозримых полисах, их еще влекло внешнее но отношению к родному полису и всему греческому миру пространство. Совсем не случайно египтяне называли греков народом моря. Их небольшие корабли бороздили Средиземное море (главным образом его центральную и восточную часть), рано, еще в эпоху архаики, проникли в Понт Эвксинский (Черное море) и основали там колонии. Но при всей своей мобильности, живом интересе к окружающему миру греки никогда, разве что вынужденные обстоятельствами, не выходил через Гибралтарский пролив в Атлантический океан. Как известно, Геркулесовы столпы (Гибралтар) были для них образом пространственного и всякого другого предела, преступать который пагубно и бессмысленно. Максимум, что может позволить себе человек, оставаясь в здравом уме, — дойти до Геркулесовых столпов. Дальше начинается нечто хаотически безмерное. То, что не просто страшит, но отвращает вопиющей несообразностью безобразия-безобразности. Сходным образом относились греки и к суше. Они странствовали
преимущественно вдоль побережья. Исключительно на побережье основывали свои колонии, где поселялись выходцы из определенного полиса, со временем образовывавшие независимый город-государство. Углубляться в неведомую сушу для грека было так же неприемлемо, как плыть за Геркулесовы столпы. Там его ждала и отвращала та же безмерность хаоса.
Македонский царь, покровитель, а фактически гегемон множества греческих полисов, Александр был вполне эллинизирован. Он получил греческое образование, для него внятны и близки были образы и смыслы греческой культуры, так что, по существу, войной яа Персию пошел если не грек, то человек, принадлежащий эллинской культуре. Но Александр не просто вторгся в пределы Персидской державы, выиграл несколько битв и даже захватил находившиеся за многие сотни километров от побережья персидские столицы. Длительную и кровопролитную войну Александру пришлось вести на самом крайнем востоке Персидского царства в расположенной в верховьях Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи Согдиане. Согдиана отстоит от средиземноморского побережья уже не на сотни, а на тысячи километров. Это не помешало Александру захватить и усмирить страну, которая одна превышала размерами его Македонское царство вместе со всем греческим миром. В Согдиане, между прочим, Александр основывает одну из многочисленных Александрий — Александрию Эсхату (Дальнюю). Поистнне, дальше в пределах бескрайней и необозримой Персидской державы македонскому царю было идти некуда. Тогда он пошел войной на восточных соседей Персии, живших за Индом, разгромил их, присоединил к своим владениям еще одну провинцию, основал еще одну Александрию и только после этого повернул на запад. Александру приписывают слова о том, что он хотел бы, чтобы существовали другие миры, которые он мог бы завоевать. Вряд ли Александр Македонский в действительности произнес что-либо подобное. И в своем мире он не успел завершить все свои завоевательные планы. Однако дух безудержной экспансии, воинствующей безмерности, присутствует и в приписываемых ему словах и в его реальных действиях. Как бы Александр, готовясь к походу и осуществляя его, не апеллировал к прецедентам, не ссылался на Троянский поход или победоносное шествие Диониса до Инда в мифологические времена, предпринятое им было огромным сдвигом и переломом, в чем-то и крушением, свершившемся в сфере не только политической, экономической и военной, но и культурной жизни.
Начиная с походов Александра, полис перестает быть единственной и даже преобладающей формой существования древних греков. Огромное их число вслед за завоевателями переселяется на восток и юг, во вновь образовавшиеся государства. Как известно, непомерно громадное государство Александра Македонского было очень непрочно и распалось вскоре после его смерти. Распад был следствием войн диадохов, бывших военачальников великого царя и полководца. Но и после возникновения на пространстве бывшего Персидского царства нескольких эллинистических государств, каждое из них было не сопоставимо по своей величине с греческими полисами. Большая же часть наследства Александра досталась двум военачальникам. Птолемею и Селевку. Они, особенно Птолемей, создали относительно устойчивые государства, просуществовавшие столетия. В частности, Птолемеи правили в Египте три столетия. Со смертью последней египетской царицы Клеопатры в 30 г. до P. X. принято связывать конец эллинистической эпохи и окончательное наступление римского периода Античности. С образованием государств диадохов до конца эллинизма было далеко, он еще только начинался. Само название новой эпохи фиксирует возникновение небывалого феномена, не эллинства Эллады-Греции, как это было несколько предшествующих столетий, а именно эллинизма, как эллинизации новых стран и народов.
Причем эллинизация коснулась не каких-то там полупервобытных македонян и фракийцев. Она произошла на территории, где еще за тысячелетие до появления Древней Греции расцвела культура Древнего Востока. Действительно, помимо малой Азии, исконно персидских земель, под власть греков попали и подверглись эллинизации Египет и Месопотамия — первые очаги древневосточной культуры. Конечно же, относительно еще молодая эллинская культура при всей своей мощи и напоре не в состоянии была ассимилировать огромные страны Древнего Востока, отменить их культурное своеобразие. Реально имели место причудливые, а нередко искусственные и недолговечные сочетания эллинского Запада с Востоком. В чем-то греки оказались восприимчивы к Востоку, в чем-то Восток — к греческой культуре. Однако нас в дальнейшем будет интересовать то, что произошло в эпоху эллинизма с, казалось бы, победоносно внедрившейся на Восток греческой культурой. Все-таки, не будем забывать, что исходные основания греческой и древневосточной культур во многом различны и даже несовместимы.
Несовместимость как невозможность слияния Запада и Востока ощутил уже Александр Македонский. Его поход в Персию не был чистым грабежом и экспансией. Александр стремился создать новое государство, в котором нашлось бы почетное место и грекам, и македонянам, и всем этим неисчислимым персам, египтянам, сирийцам, мидянам и т. д. Но вся проблема для Александра состояла в том, что Восток был страной, где устоявшимися и привычными были фигура божественного царя и служащие ему рабы, Запад же мыслил себя под знаком свободы. Для греков и македонян рабство являлось унижением и позором. Своего великолепного царя они готовы были воспринимать как божественного Александра, родившегося не от своего отца Филиппа, а от самого Зевса. Но это вовсе не значило, что люди, окружающие того, кого они готовы были признать сыном Зевса, а значит, полубогом, этим повергали себя в ничтожество. Хотя Александр был первым и несравненным и ему полагались божеские почести, первенствовал он среди равных. Греческие и македонские воины, в особенности аристократия, воспринимали себя не столько слугами, сколько соратниками своего царя. В результате по мере завоевания новых территорий на Востоке и упрочнения там своей власти Александр Македонский оказывался во все более двусмысленной ситуации. С одной стороны, египетские жрецы и вельможи признают его фараоном, сыном Амона и Ра, то есть богом среди рабов, перед ним падают ниц самые знатные вельможи Египта, Вавилонии, Сирии. С другой стороны, на все это воины — соратники Александра смотрят как на политический маскарад с целью упрочить власть греко-македонян среди чуждых и враждебных им варваров. Однако Александр Македонский относился к восприятию его на Востоке в качестве божественного царя вполне серьезно. Возможно, божеские почести кружили ему голову. Но и как вполне трезвый политик, Александр видел, что его новое государство может быть упрочено только тогда, когда его будет увенчивать фигура божественного царя. Любая другая власть на Востоке останется властью завоевателей. Поскольку же Восток составлял несопоставимо большую часть его владений, чем греко-македонский Запад, Александр, видимо, полагал, что в вопросе царской власти именно последний должен пойти на уступки и признать Александра божественным царем в восточном смысле. Первым, а может быть и решающим шагом в сторону такого признания, по замыслу царя, должно было стать введение обряда проскинезы, т. е. коленопреклонения перед царем не только вельмож завоеванных на Востоке областей, но и греков и македонян. Нужно сказать, что проскинеза была обычаем, принятым при персидском дворе. Она включала в себя не только коленопреклонение, но и последующий обмен поцелуем между царем и его подданными. Совершенно очевидно, что персидская проскинеза — это сильно смягченный вариант падения ниц, принятого, например, в Древнем Египте и некоторых других странах Древнего Востока. Она выражала даже не обожествление царя, а скорее шаг в эту сторону. Преклонение колена — намекнул на свое рабство, поцеловал владыку — утвердил с ним равенство.
И все-таки даже такой ослабленный вариант обожествления у Александра не прошел.
В античной истории разыгралась сцена, которую потомки запомнили и которая расставила все точки над «г». Ареной действия оказался далекий восточный город Бактры, а главным действующим лицом на ней стал родственник и ученик Аристотеля Каллисфен. Он был философом, историком, ритором, сопровождавшим Александра Македонского в его походах и оказывавшим ему «пропагандистскую* поддержку. Каллисфен был в высшей степени лоялен к Александру и вполне принимал тезис о его божественном происхождении. Но его божественность он трактовал в греческом смысле. Александр же хотел, чтобы грек Каллисфен, от которого в Грецию поступали сведения о его походе на Восток, через участие в проскинезе по существу признал его божественным царем. Некоторое время проскннеза практиковалась Александром только в отношении его персидских подданных. Затем он попытался ввести ее как обряд, общий для греков, македонян и вельмож бывшей Персидской державы. Для этого был устроен пир, на котором, как это принято у македонян, участники располагали^ но кругу. Обыкновенно царь пил за здоровье каждого из гостей. Сначала он подносил золотую чашу к своим устам, затем посылал ее тому, кого чествовал. На этот раз предполагалось, что гость, принявший чашу, подойдет к алтарю, где горел огонь в честь персидского божества, выпьет вино, затем совершит проскинезу и обменяется с царем поцелуем. Началась церемония вполне удачно. Пал ниц Гефестион — организатор пира, другие греки и македоняне. Когда дошла очередь до Каллисфена, он выпил чашу, но приблизился к царю для поцелуя, не совершив коленопреклонения. Когда Александр в гневе отвернулся от Каллисфена, тот со словами «что ж, значит одним поцелуем меньше», занял свое место на пиру. Проскннеза провалилась и больше Александром Македонским не возобновлялась. Вместе с ней не имели будущего попытки Александра встать над Востоком и Западом, создав некоторое устойчивое государственное образование, которое не было бы ни Западом, ни Востоком. В дальнейшем имела место эллинизация Востока в качестве культурной экспансии греков на Восток, стремление придать ему греческие черты, а по возможности и растворить его в греческой культуре. Но очень важно, что при этом греческая культура, оставаясь сама собой, очень существенно менялась. Даже противостояние Востоку, не говоря уже о влиянии последнего на нее, не проходило для греков даром.
В своей миграции на Восток греки, не помышляя ни о каком сближении и тем более слиянии с восточными варварами, стремились организовать свою жизнь по традиционно эллинским меркам. Они создавали новые города — полисы. В них эллинские цари вводили местное самоуправление с традиционными для полисов институциями. Строился новый полис, как правило, по одному и тому же плану. Две центральные улицы пересекались под прямым углом с другими улицами. Жители полиса получали земельные наделы, многие из них владели рабами из числа местного населения. В новых эллинистических государствах получила широкое распространение система клерухий, военных поселений, жители которых одновременно были земледельцами или обрабатывали землю при помощи рабов и зависимых крестьян. Хотя ни о какой независимости вновь возникавших полисов не могло быть и речи. Все они безоговорочно признавали над собой царскую власть. Тем не менее греческие города имели довольно широкую автономию, вмешательство царей в их жизнь имело свои пределы. По сути греческие полисы с их округами, разбросанные на пространстве от средиземноморского побережья до Инда, оставались островами и островками в море древневосточного мира. Это был своего рода архипелаг, только расположенный не в привычном для грека море, а на не менее огромных пространствах суши. Несмотря на то, что греки в эпоху эллинизма преодолели свое отвращение к безмерной дали и простору, жить они по- прежнему стремились в обозримом пространстве малой родины, не слишком интересуясь тем, какие страны и народы их окружают. Они оставались для них в значительной степени «морем» чуждой и непонятной варварской жизни. Вновь созданные эллинистические государства стали по преимуществу внешними скрепами, удерживающими восточные народы в повиновении. Конечно, миграция греков, создание ими своих поселений, государственной власти, сильного войска и т. п. имели своим последствием эллинизацию местного населения. Однако эллинизировалась достаточно узкая прослойка знати и горожан. Восточная же глубинка жила своей традиционной жизнью, мало отличая нового эллинистического царя от привычного ей восточного властителя. Между тем эллинистический царь был принципиально новой фигурой как с точки зрения греческого Запада, так и завоеванного Востока. Его появление не сводится к одному только возникновению новой формы правления в эллинском и эллинизированном мире. Оно знаменует собой кардинальный сдвиг в древнегреческой культуре и в какой-то мере способно объяснить, почему греческий полис оказался разомкнутым к освоению тех пространств, которых столетиями чуждался как чего-то способного подорвать основы эллинского духа.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 582;
