Франция – волшебное дитя поэзии и философии 7 страница
В первой половине XVIII в. не было, пожалуй, другой столь известной книги. Во Франции, где она запрещена, ее читали в копиях, в Германии – в оригинале, в Англии тотчас же перевели. Иные пытались уязвить автора, говоря, что это «бред сумасшедшего». К счастью для ученого, Фридрих II ему покровительствовал, что и спасло беднягу от тюрьмы. Ламетри переезжает в Пруссию (1748). Фридрих предоставил ему должность врача и место личного чтеца короля. Об этом кружке вольнодумцев Вольтер скажет: «Никогда и нигде на свете не говорилось так свободно о всех человеческих предрассудках, никогда не изливалось на них столько шуток и столько презрения». Швейцарский историк культуры Я. Буркхардт назвал Фридриха II «первым современным человеком на троне» (в Европе Нового времени).
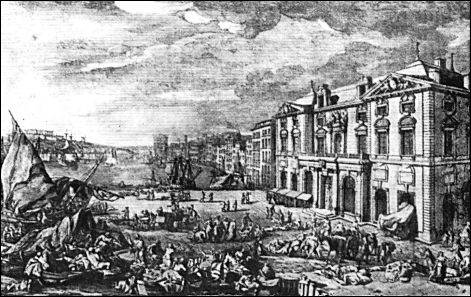
Моровая язва в Марселе.
Чем так досадил философ святошам? Обозвал человека самозаводящейся машиной? Или тем, что человек сравнивался им с братьями меньшими (животными)? Ламетри писал: «Истинные философы согласятся со мной, что переход от животных к человеку не очень резок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков? Животным особого вида, у которого было меньше природного инстинкта, чем у других животных, царем которых он себя тогда не считал; он отличался от обезьяны и других животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, т. е. физиономией, свидетельствующей о большей понятливости… Человека дрессировали, как дрессируют животных; писателем становятся также, как носильщиком. Геометр научился выполнять самые трудные чертежи и вычисления, подобно тому как обезьяна научается снимать и одевать шапку или садиться верхом на послушную ей собаку».[429] Возмущению читателей, которых сравнивали с обезьянами, не было предела. Когда ученый скончался (в 42 года), злопыхательство в его адрес не утихало. Одни прямо у могилы открыто выражали свою радость. Вторые сожалели, что Ламетри «умер в своей постели». Третьи ёрничали: взгляните же, а он еще доказывал, что человек – машина.
Одним из провозвестников надвигающейся революционной бури стал Клод Адриан Гельвеций (1715–1771), философ-материалист. Как и многие из его великих сверстников, он прошел школу иезуитов (учился в коллеже Людовика Великого, подчиненного ордену иезуитов). Его учителем станет Книга. Юноша читал Корнеля, Расина, Буало, Мольера, Лафонтена, Монтеня, Лабрюйера, Ларошфуко, Локка («Опыт о человеческом разуме»). Первый биограф Гельвеция Сен-Ламбер писал: «Эта книга произвела революцию в его (Гельвеция) мыслях. Он стал ревностным учеником Локка, но учеником таким, каким был Аристотель для Платона, учеником, способным прибавить к открытиям учителя свои собственные открытия». Ученик должен идти дальше учителей. Закончив коллеж, Гельвеций стал финансистом. Связи при дворе обеспечили ему должность генерального откупщика с годовой рентой в 300 тыс. ливров. «Все золото мира» лежало у его ног. Так что же, да здравствует богатство и – pas de reveries!? (франц. никаких мечтаний?). Увольте нас от пошлого скудоумия крезов. Кому суждено быть философом, тому нечего делать в политиках и финансистах. В кущах философского сада куда больше богатств.
К тому же, находясь в Бордо, он узнал о новом налоге, грозившем окончательно разорить провинцию и город. Генеральный откупщик не мог равнодушно смотреть на вопиющую несправедливость администрации. Напрасно он пытался убедить власти отказаться от него. У власти своя «логика». Горе и бедствия заметны повсюду. В результате дороговизны хлеба вспыхивают восстания в Кане, Руане, Ренне (1725). В Париже бедняки громят склады и магазины. Следует жестокая расправа. Предместье Сент-Антуан украшено виселицами с трупами зачинщиков голодного бунта. Ученый лишен права на равнодушие. Все изыскания мира не стоят нищеты и страдания народов (хотя без науки нет прогресса). Как не хватает иным нынешним политикам чувства сопричастности, свойственного людям той эпохи. Видя преступления, Гельвеций обратился к народу с призывом: «До тех пор, пока вы ограничитесь жалобами, никто не удовлетворит ваши просьбы. Вы можете собраться в количестве свыше десяти тысяч человек. Нападите на наших чиновников, их не более двухсот. Я встану по главе их, и мы будем защищаться, но в конце концов вы нас одолеете, и вам будет воздана справедливость». Так должны говорить революционные философы и политики, а не блеять трусливо под алчным взором волчьей стаи псевдореформаторов, разворовавших страну.
Гельвеций встречался с Фонтенелем, Вольтером, Бюффоном (автором «Естественной истории»). Первым его произведением стало «Послание о любви к знанию» (1738). Следующий литературный опыт – «Послание об удовольствии», вызвавшее раздражение властителей и крупных собственников. Еще бы, ведь он прямо заявил: «Нет собственности, которая не была бы результатом кровавого насилия». Однако главными работами стали выдающиеся труды «Об уме» (1758) и «О человеке» (1769). Книги писались в условиях нараставшего кризиса во французском обществе. Феодальные повинности и поборы вели к деградации деревни. Народ нищал. Крестьяне вынуждены были бежать в города, где их ожидала не менее тяжкая участь. По свидетельству маркиза д`Аржансона, с 20 января по 20 февраля 1753 года в Сент-Антуанском предместье насчитали 800 несчастных, умерших от голода. Чудовищное расслоение общества и рост массовой нищеты неотвратимо влекли Францию к революции.

Клод Гельвеций.
Гельвеция надо читать вдумчиво, следуя пожеланиям автора («выслушать меня, раньше чем осуждать; проследить всю цепь моих идей»). Он писал: «У немногих людей есть достаточно свободного времени для получения образования. Бедняк, например, не имеет возможности ни размышлять, ни исследовать, и истины и заблуждения он получает готовыми; поглощенный ежедневным трудом, он не может подняться в сферу известных идей, поэтому он предпочитает «Голубую библиотеку» произведениям… Ларошфуко». Массовая бедность делает невозможным серьезное образование народа. До книг ли, когда от голода подводит желудок?! Ум постепенно деградирует: «При невежестве ум чахнет за недостатком пищи». Глубоко верным представляется и утверждение Гельвеция: все, что окружает нас в этой жизни, так или иначе, но принимает участие в воспитании. «Никто не получает одинакового воспитания, ибо наставниками каждого являются… и формы правления, при котором он живет, и его друзья, и его лечебницы, и окружающие его люди, и прочитанные им книги, и, наконец, случай, т. е. бесконечное множество событий, причину и сцепления которых мы не можем указать вследствие незнания их». Наше воспитание находится в руках общества.[430]
В программной работе «Об уме» Гельвеций говорит, что человечество обязано открытиями в области искусств и наук отнюдь не вельможам. Не их рука начертала планы земли и неба, строила корабли, воздвигала дворцы, ковала лемех плуга. Не ими написаны первые законы. Общество выведено из дикого состояния людьми просвещенными и учеными. Впрочем, сама по себе принадлежность к ученой братии еще не является «страховкой от глупости». Наука это лишь отложение в памяти фактов и чужих идей… «Ум» – это нечто совсем другое. В отличие от «науки» под «умом» предполагается «совокупность каких-либо новых идей». Поэтому Гельвеций утверждал: «На земле нет ничего, более достойного уважения, чем ум». Особое значение придавал он роли талантов: «Честный человек может стать полезным и ценным для своего народа только благодаря своим талантам. Какое дело обществу до честности частного лица! Эта честность не приносит ему почти никакой пользы. Поэтому о живых оно судит так, как потомство судит о мертвых: оно не спрашивает о том, был ли Ювенал зол, Овидий распутен, Ганнибал жесток, Лукреций нечестив, Гораций развратен, Август лицемерен, а Цезарь – женой всех мужей; оно выносит суждение только об их талантах».[431]
И вновь подтвердилась истина, гласящая: «Тираны и мерзавцы, помимо «критики оружием», больше всего на свете боятся честных и великих книг!». Продажные журналисты, ученые, клирики тотчас же, подобно стае злых бешеных собак, накинулись на труд Юпитера. Ладно бы нападали консерваторы-церковники (книга предана анафеме парижским архиепископом де Бомоном, римским папой Климентом XIII). Но и академики внесли свой вклад в травлю мыслителя. В 1758 году его осудила почтенная Сорбонна, выдвинув против автора свыше ста обвинений. Парижский парламент приговорил книгу Гельвеция к сожжению (с книгой Вольтера «Естественная религия»). Впрочем, появились и ее анонимные защитники в печати. Дидро отнес труд Гельвеция к великим творениям века. Отметил значение работы и президент Петербургской академии художеств небезызвестный граф И. И. Шувалов.
Французская культура вырастала и расцветала, питаясь соками античности. Жан де Лабрюйер (1645–1696) – блестящий мастер афоризмов, переводчик с греческого «Характеров» Теофаста. Он считал: «Чтобы достичь совершенства в словесности и – хотя это очень трудно – превзойти древних, нужно начинать с подражания им». Его оценки людей науки в «Характерах, или нравах нынешнего века» таковы: «Иные, будучи не способны ограничить свою жажду знаний какой-нибудь определенной областью, изучают все науки подряд и ни в одной не разбираются: им важнее знать много, чем знать хорошо, интереснее нахватать побольше знаний, чем глубоко проникнуть в один-единственный предмет. Любой случайный знакомец кажется им мудрецом, от которого они ждут откровений. Жертвы суетной любознательности, они в конце концов разве что выбиваются из полного невежества: таковы плоды их долгих и тяжких усилий. Другие владеют ключом от всех наук, но никогда в них не проникают… Память их до отказа наполнена, она уже больше ничего не вмещает, но головы все равно пусты».[432] Лабрюйер старался подражать и в жизни древним мудрецам. «Мне изображали его, – писал его современник д`Оливье, – как философа, который не думает ни о чем, кроме спокойной жизни в кругу друзей и книг, отбирая лучших из тех и других; который не жаждет и не ищет никаких наслаждений; предпочитает скромные радости и умеет их извлекать; вежлив в манерах и умен в рассуждениях; лишен всякого честолюбия, желания показать свой ум». Живя при дворе принца Конде, куда он был приглашен воспитателем юного герцога Бурбонского по рекомендации де Боссюэ, ему, безусловно, было очень нелегко чувствовать себя комфортно среди светских вертопрахов и аристократических ничтожеств, известных своей жестокостью и разгульными нравами. Но его философия стоила обедни.[433]
Важнейшей фигурой среди энциклопедистов стал просветитель и правовед Шарль Луи Монтескье (1689–1755). Книга «О духе законов» это своего рода системное обобщение социофилософских, историко-экономических, юридических взглядов прогрессивной части французской буржуазии, к которой принадлежал и Монтескье. Он получил наследственный пост президента парламента в Бордо (должность, связанная с судейскими функциями). Для него характерны либерально-гуманистические взгляды. Экономическая платформа буржуазии нашла точное и адекватное выражение в девизе одного из героев «Персидских писем» Монтескье. Девиз стал популярен у современников. Он и сегодня звучит достаточно веско и убедительно: «Выгода – величайший монарх на земле!» Житейские установки философа были понятны многим из тех, кто был во власти. Это безусловно помогло автору стяжать столь громкую славу, а заодно и получить всегда желанное кресло во французской Академии.[434]
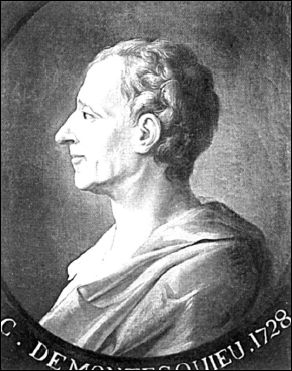
Шарль Монтескье.
Как шло становление его взглядов? Три года Монтескье путешествовал по Западной Европе. Знакомился с социально-политическим устройством Италии, Голландии, Англии, Германии. Туманный Альбион произвел на ученого неизгладимое впечатление. Будучи юристом-правоведом, он оценил те преимущества, которые, как ему казалось, имеет английская политическая система. Монтескье получил возможность встречаться и беседовать с лучшими умами Англии того времени – Болингброком, Свифтом, Попом, Честерфилдом. Если «Персидские письма» – романтическая сказка, интригующая европейца, то «Дух законов» представляет собой внушительный философско-политический трактат, значительная часть которого посвящена критике деспотических правлений, где каждый дом – мрачная крепость. В сердца там стремятся вселить страх. Умы пичкают наипростейшими и примитивнейшими образами и идеями. Знание в таких государствах – опасно, а соревнование – бессмысленно. Главная цель доктрин – получить хорошего раба. Задачи воспитания тем самым упрощаются донельзя. Правилом поведения людей становится слепое повиновение. Итог его трагичен – массовое невежество и духовное рабство. Деспотия поделила общество на тиранов и рабов. Ее цели убоги и жалки. Деспотия боится «воспитать хорошего гражданина, чуткого к общественным бедствиям». Такой романтизм может толкнуть правителя к соблазну ослабить бразды правления. В итоге недолго и до ниспровержения. С другой стороны, ни одно правление «не нуждается в такой степени в помощи воспитания, как республиканское правление». Однако чтобы оно было успешным, нужны свободы, самостоятельность, предприимчивость, порядок. Свои симпатии к демократии Монтескье оговаривал «любовью к умеренности». Все (за исключением воров и бездельников) должны пользоваться в обществе «одинаковым благополучием и выгодами».[435] Монтескье считал, что «законы воспитания – это первые законы, которые встречает человек в своей жизни». Каково воспитание – таково и общество. В монархиях главным «воспитателем» выступает не школа, а «высший свет». Среди преимуществ системы – обретение человеком чувства чести, учтивости, вкуса и т. п. Автора отличает безграничная вера в силу законов и век разума. Эта часть книги с ее правовой «наивностью» и лукавыми упованиями на монархию выглядит неубедительно. Критики и не разделяли его оптимистических надежд на всесилие разума. Гельвеций говорил: «Всякий изучающий историю народных бедствий может убедиться, что большую часть несчастий на земле приносит невежество». Лабрюйер утверждал: толпы невежд исчисляются тысячами. Но Монтескье настаивал: «Каждый народ достоин своей участи». Чего же он достоин?
О том, что собой представляла жизнь простого народа Франции в XVII–XVIII вв., можно узнать скорее, глядя на полотна художника Луи Ленена (1593–1648). Он, как и его братья-художники, был выразителем крестьянского жанра в живописи («Трапеза крестьян», «Семейство молочницы», «Повозка» и т. д.). Этот художник испытал на себе влияние караваджистской традиции. Его искусство отличают ясность жанра и высокий гуманизм. Ленен первым непосредственно обратился к жизни крестьянина. Герои его естественны, скромны, полны достоинства. Право слово, в его крестьянах и рабочих больше благородства, чем во всех герцогах и королях.[436] Жизнь простого люда была невыносима. В Лотарингии в 1634–1636 гг. постоянно рыщут соперничающие армии, скорее похожие на бандитов. Когда армия принца Конде вошла в провинцию, о ней так писали в Париж: «Господа дворяне от первого до последнего пожирают все запасы и всюду вызывают голод, они стали помешищем для врагов, которые безнаказанно грабят даже у ворот Нанси». Ничуть не лучше вели себя и войска Карла IV. Это был тот период Тридцателетней войны, когда по землям Лотарингии, словно бушующие валы, катились воинства многих стран. По подсчетам ученых, в Лотарингии находилось тогда более 150 тысяч солдат (а вместе с обозом – около полумиллиона пришельцев). Столкновения, битвы, мятежи, грабежи, эпидемии – обычные картины того времени. Богатый торговый город Сен-Никола буквально был опустошен, так как туда только за один месяц вторглись немцы, французы, шведы. Город, насчитывавший 10 тысяч жителей, был дочиста разграблен и сожжен. Жителей убивали в домах и на улицах (в живых осталось несколько сотен), монахинь привязывали голыми к хвостам лошадей. Схожие картины можно видеть всюду. В 1636 г. в Лотарингию вторглось войско Карла IV, на знаменах которого девиз: «Сильно бьет, все берет, ничего не отдает». Жестокость вошла в плоть и кровь европейских вояк.
Ришелье писал: «Лотарингские владения обращены в ничто, большинство лотарингцев погибло, деревни сожжены, города пустынны, так что нет возможности восстановить Лотарингию даже за столетие». К тому же в 1636 свирепствовала особенно страшная эпидемия чумы (год чумы). Три четверти сельского населения погибли или покинули страну. Голод был вопиющим. Карл Лотарингский говорил, что его солдаты в разоренных областях вынуждены были есть людей, называя количество съеденных, – «более десяти тысяч». Люди разрывали могилы и ели трупы. Матери отдавали друг другу своих детей на съедение. «Видели даже многих матерей, доведенных до тяжкой необходимости есть своих собственных детей, чтобы не умереть с голода, и они говорили одна другой: сегодня я поем твоего, а завтра ты получишь кусок моего». Это не ужасные сказки, а быль. В этом корни будущих революций, а не в масонах!
Некоторые историки-мемуаристы признавались, что пишут, зная: в будущем им никто не поверит. Правители той поры – жестокие и гнусные твари. Одного из них, канцлера Сегье, звали «собака в большом ошейнике». Чтобы ликвидировать эти порядки, порой, увы, нужны гильотины, на которые и должны быть отправлены «собаки». Фарисеи извели потоки чернил, пролили океаны крокодиловых слез над трупами двух-трех монархов и их семей. Однако они напрочь забыли о невыносимых, жутких страданиях миллионов несчастных тружеников. Но память народа не убить! Мы не забудем вашего гнусного двуличия, господа. Современник описал состояние некогда цветущего края Франции (Лотарингии): «Бедняки подбирали падаль и погибший скот, словно это было лучшее мясо. Бедствия усугублял чрезмерный голод, от которого погибало множество людей. Часть несчастных крестьян скрывалась в лесах, другие оставались в совершенно разрушенных хижинах и, лишенные дров, погибали, так что деревни, когда-то выглядевшие небольшими городками, становились совсем пустынны, и немногие еще живущие в них люди были столь болезненны и истощены, что их принимали за скелеты». В последующие десятилетия ситуация не выглядела лучше. Многие источники сообщали о полном разорении и бедствиях народа в провинции[437]
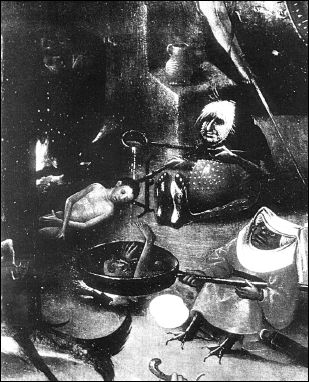
Иероним Босх. Страшный суд. Фрагмент.
Впрочем, иные представители знати старались дать достаточно объективную картину состояния страны. Герцог Сен-Симон в «Мемуарах» (1750) рассматривал историю Франции как историю нравов, говоря, что он намерен «раскрыть интересы, пороки, добродетели, страсти, ненависть, дружбу, и все другие причины, – как главные, так и побочные, – интриг, заговоров, и общественных и частных, действия, имевшие отношения к описываемым событиям…» К сожалению, его внимание привлечено к придворным, чиновникам, священникам, военным, а не к положению широких народных масс. Его больше занимают и волнуют «принцы и принцессы крови» (les princes et les princesses du sang), а не кровь и страдания тружеников… Хотя в отдельных местах своего повествования он не скрывает возмущения положением униженной и разоренной Франции, изнемогающей под бременем чудовищных поборов знати, страны, терзаемой чиновничеством и буржуазией… «Между тем, – констатирует Сен-Симон, – все постепенно гибло, можно сказать гибло у всех на глазах: государство было совершенно истощено, войска не получали жалованья и негодовали на дурное командование, следовательно, чувствовали себя несчастными; финансы зашли в тупик; у военачальников и министров – полное отсутствие способностей, выбор их определялся только личным пристрастием и интригами; ничто не наказывалось, не изучалось, не взвешивалось; бессилие вести войну равнялось бессилию достичь мира; все безмолвствовало, все страдало; кто осмелился бы поднять руку на это строение, шатающееся и готовое упасть».[438]
Требования Сен-Симона надо было бы предъявить и нынешним историкам. Хотя сегодня для написания правдивой истории общественных нравов недостаточно просто «иметь глаза» и быть «соглядатаем своего века» (как сказал о Сен-Симоне Сент-Бев). Сегодня историку, философу, социологу, писателю необходимо иметь еще и такие качества, как смелость, совесть, честность и воображение, выступающие в союзе с глубочайшими знаниями. Наш народ должен понять: нельзя верить столичным «интеллектуалам», воспевающим «золотой век» монархий и западных «демократий». Эти сытые демагоги всегда лгали народу и обманывали его (как лгут и по сей день в России). Ранее показаны условия жизни народа Франции. Но вот что писал эстет П. Валери в XX в. почти о тех же временах: «Если бы Парки предоставили кому-либо возможность выбрать из всех известных эпох эпоху себе по вкусу и прожить в ней всю свою жизнь, я не сомневаюсь, что этот счастливец назвал бы век Монтескье. И я не без слабостей; я поступил бы так же. Европа была тогда лучшим из возможных миров; власть и терпимость в ней уживались; истина сохраняла известную меру; вещество и энергия не правили всем безраздельно; они еще не воцарились. Наука была уже достаточно внушительной, искусства – весьма изящными Даже улица была сценой хороших манер. Казна взимала с учтивостью. Народы жили правильно в мире».[439] Как удобна для их спокойствия эта «близорукость», скрывающая обычную трусость.
Конечно, в годы царствования Людовика XIV (1638–1715), получившего прозвище «король-Солнце», создан Версаль. Архитектор Лево приступил к возведению великолепных ансамблей (1660), завершенных уже Монсаром. Все эти немыслимые красоты (дворцы, скульптуры, ансамбли, фонтаны) обошлись в 150 миллионов ливров. Создание столь грандиозных сооружений требовало технических знаний и культуры труда. Поэтому доля истины есть и в словах историка Н. Карамзина, писавшего: «Французская монархия производила великих государей, великих министров, великих людей в разных родах; под ее мирною сению возрастали науки и художества, жизнь общественная украшалась цветами приятностей…»[440]
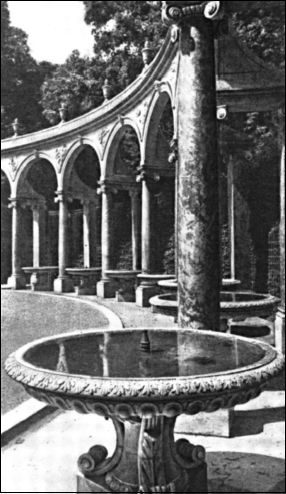
Жюль Ардуэн-Мансар. Колоннада в парке Версаля. 1685 г.
Перемены обусловлены ходом времени. В программу народного образования входит изучение светских авторов. В школах стали преподаваться физические и математические науки. Что же изменилось? Анри Сен-Симон писал: «Различие в этом отношении между старым порядком вещей и новым, между порядком, существовавшим пятьдесят, сорок и даже тридцать лет тому назад, и нынешним очень велико: эти довольно еще близкие к нам времена, когда хотели знать, получил ли человек отличное образование, спрашивали: хорошо ли он овладел греческими и латинскими авторами? А теперь спрашивают: силен ли он в математике, знаком ли он с новейшими открытиями в физике, химии, естественной истории, одним словом, сведущ ли он в положительных науках, в опытных науках?»[441] Во Францию направил Пётр Великий в 1719 г. механика Нартова (найти «мастера, который делает краны»). В Версале он осмотрел фонтаны и технические сооружения, каковыми уже тогда славилась Франция. Нартов изучил работу крупнейшего инженерного сооружения – гидросиловой установки плотины на реке Сене. В письме он сообщал: «А мы видим в Париже многия машины и надеемся мы оных секретов достать ради пользы государственной, которые махины потребляются на работах государственных». Внимание его привлекли токарные станки («токарные махины»). «Отец русской механики» привез из Парижа аттестат Парижской Академии, выданный ему за труды в области математики и механики. Президент Парижской Академии г-н Биньон отметил «великие успехи, которые он учинил в механике», подчеркнув способность Нартова накапливать «знания, которые ему потребны» (во Франции он учился у математика, геометра и механика Вариньона, у астронома Лафая, у художника Пижона и других).[442]
Правительство Людовика XV (которому принадлежит фраза, брошенная маркизой Помпадур королю в 1757 г.: «После нас хоть потоп!») после смерти Сен-Симона, опасаясь разоблачений в свой адрес, конфисковало рукопись, которая увидела свет лишь через 75 лет (была опубликована в 1829–1830 гг.). Любопытно и то, что потомок рода Сен-Симонов в дни Великой Французской революции, поднявшись на трибуну народного собрания, торжественно сложит с себя титул знатного дворянина, заявив: «Отныне во Франции нет больше синьоров, граждане!» Что ни говорите, а бунтарская кровь предков живет в детях и внуках. «Цвет французского общества» продолжал наслаждаться жизнью, предаваясь куртуазным забавам в духе рококо, не желая хотя бы во имя приличия прикрыться «фиговым листком добродетели» (как это делали скульпторы при ваянии нагого тела с XVI века). Снобы и дамы отдавались во власть «духа мелочей прелестных и воздушных». Словно вокруг не было горя и нищеты. В книгах и картинах проявилась чувственно-эротическая сторона эпохи. Обычным сюжетом становились сцены насилия: «Силой овладел телом» («Vim corpus tili»). Иные понимали: их время подходит к концу – и предавались упоительно-безумному веселью и любовным оргиям. Фаворитки превращали королевские покои в собственную прихожую. Литература той эпохи может порассказать о многом – «Персидские письма» Монтескье, «Манон Леско» Прево, «Опасные связи» Шодерло де Лакло, «Простодушный» Вольтера, «Нескромные сокровища» Дидро и другие. Романы были школой и университетом. Пьянящий дионисийский хмель бродил даже монашеских душах. Воспитание понималось как свод неких правил. В романе Кребийона-сына «Заблуждения сердца и ума» (1736–1738) дается наставление повесе: «…Я буду счастлив научить вас кое-чему. Есть вещи, непонимание которых ставит вас в неловкое положение, а с течением времени становится даже постыдным, ибо их должен знать каждый светский человек. Без знания их самые великие преимущества, полученные нами при рождении, не только не возвышают нас, но, напротив, могут погубить. Я понимаю, что наука эта является сводом мелочных правил и что многие из них оскорбляют и разум и честь; мы можем презирать эту светскую мудрость, но ее надо изучать и следовать ее правилам неукоснительнее, чем законам, более возвышенным, ибо, к стыду нашего общества, нам скорее простят преступление против чести и разума, чем нарушение светских приличий». Тем самым, наставник дает ему понять, что честь и разум – это обуза.[443]
В том же духе размышляло немало светских бездельников и шалопаев. В эпоху позднего абсолютизма столицы купались в шампанском, упивались развратом. Попойки, ночные оргии, карнавалы, словно во времена незабвенной Лукреции Борджиа, сотрясали дряблое тело Европы. В то время как лучшие умы в тиши кабинетов, повинуясь долгу, разрабатывали контуры будущего общества, другие воровали и грабили, прожигая жизнь. «Золотая молодежь» в этом даже видела некое геройство. O imitatores, servum pecus! (лат. «О подражатели, скот раболепный!»). Пушкин иронично писал о том времени: «…образованность и потребность веселиться сблизила все состояния». Разумеется, речь в этом случае шла о верхних слоях общества. Нижние же слои жили все хуже и хуже, беспросветнее и беспросветнее.
А как просвещали представительниц слабого пола? Где обучались молодые девушки? Почитайте мольеровских «Учёных женщин» (1672). Попрежнему в монастырях, где они за чтением Библии мечтали о мужчинах с их коварным предложением Savoir faire aimer! (франц. «Научить любить»). Монастырская система обучения вступила в разлад с веком. Запертые в кельи, как в тюрьмы, ученицы были плохо подготовлены к жизни. Дидро, прошедший школу иезуитского коллежа д`Аркур, отказавшийся от духовной карьеры, описал в романе «Монахиня» (1760) судьбу такой девушки (незаконнорожденной дочери адвоката, упрятанной в монастырь). Дидро устами своей героини описывает устав монастыря: «В Лоншане, как и в большинстве других монастырей, настоятельницы меняются через каждые три года. Когда меня привезли сюда, эту должность только что заняла некая г-жа де Мони. Я не могу передать вам, как она была добра, сударь, но именно ее доброта и погубила меня. Это была умная женщина, хорошо знавшая человеческое сердце. Она была снисходительна, хотя в том не было ни малейшей надобности: все мы были ее детьми. Она замечала лишь те проступки, которых ей никак нельзя было не заметить, или настолько серьезные, что закрыть на них глаза было невозможно… У г-жи де Мони был, пожалуй, лишь один недостаток, который я могла бы поставить ей в упрек: дело в том, что любовь к добродетели, благочестию, искренности, к кротости, к дарованиям и к честности она проявляла совершенно открыто, хотя и знала, что те, кто не мог претендовать на эти качества, тем самым были унижены еще сильнее. Она обладала также способностью, которая, пожалуй, чаще встречается в монастырях, нежели в миру, – быстро узнавать человеческую душу».[444] Однако тут были и свои соблазны.

Франсуа Жирардон. Купающиеся нимфы. 1675 г.
Лишь особы из дворянских семей могли получить образование в институтах для благородных девиц, наподобие учрежденного в конце XVII в. заведения мадам де Ментенон (тайной супруги Людовика XIV). Ее считали некоронованной королевой Версаля. Эта женщина, словно волшебница, в свои 66 лет выглядела так, как будто ей 30, а в 45 лет она считалась самой красивой женщиной королевства. Ментенон была дамой просвещенной. С ней можно было обсуждать комедии Мольера и трагедии Расина. Король любил эти беседы. Говорили, что она якобы управляет Францией. Это не так. Мадам помнила фразу, которую повторял Людовик: «Надо остерегаться женщин, которые занимаются делами наравне с мужчинами». Ею было создано учебное заведение (дом Святого Людовика в Сен-Сире). Она там царствует даже больше, чем в Версале. Для этого дома, предназначенного для воспитания молодых благородных девиц, не имеющих состояния, она составила устав. Она следила за его соблюдением, приходила инспектировать во время уроков и перемен, присоединялась к молитвам своих подопечных, даже обедала в их «столовой, предпочитая эти обеды королевскому банкету». Она хотела воспитать настоящих дам, не жеманниц или ветрениц. «Нелепая и нескромная манера таких девиц одеваться, употребление табака, вина, их чревоугодие, грубость и лень» – все это противоречит вкусу маркизы. Она говорила: «Я люблю женщин скромных, воздержанных, веселых, способных быть и серьезными, и любящими пошутить, вежливых и насмешливых, но чтобы в насмешке не было злобы, сердца которых были бы добры, а беседы отличались бы живостью, были бы достаточно простодушными, чтобы признаваться мне в том, что они себя узнают в этом портрете, который я нарисовала без особого замысла, но который я считаю очень верным».[445]
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 862;
