КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 57 страница
•конец, самое важное — бесконечное в его данности человеку и есть, по Уланду, романтическое. В обращенности к нему самое сердцевина романтизма. Не упустим только из виду то, что бесконечность не только влечет человека, но и есть он сам, в ней глубочайшие основы духа. Природа, Бог, человек суть одно и тоже, их различие на поверхности, оно исчезает ; бесследно в средоточии всех вещей. О том, что человек и есть Бог, от романтика мы узнаем в
> третий раз. В первый раз об этом заговорил Ренессанс, для которого о человеке и Боге равно I можно сказать словами Пико делла Мирандолы как о «славном мастере»-творце. Обожест- I вление человека Просвещения совсем не так очевидно. В нем нет ничего величественного или г прекрасного, и сам он вовсе не претендует ни на какую божественность. Между тем с Богом I его сближает, роднит и отождествляет наличие у человека разума. В своей разумности чело- I век отличим от Бога лишь как движение и процесс — от достигнутого результата. Этот I результат Богу дан изначально в Его разумном оформлении и устроении Вселенной. Человек |тоже оформляет и устрояет, только не Вселенную в целом, а некоторый ее участок, в позна- I нии же он сливается с Богом, является им самим. Скромности и умеренности просветителей в романтиках не было совсем, и о своей божественности они говорили с легкостью. Видели t же ее романтики на очень особый и, надо сказать, страпный для любой предшествующей I эпохи манер. Для них божественность заключалась не столько в данности человеку каких- I либо божественных свойств и признаков, сколько в недовольстве человека своим человече- I ским бытием. Оно выражалось в тоске и томлении по бесконечному, в совершенно чуждой просвещенческой серединности готовности выйти за рамки человеческого в мечте и в искус- I стве. В конечном же счете романтик тяготел к какому-то невнятному совпадению с природой [ и Богом, по ту сторону индивидуально-личностного бытия, там, где начинаются вселенская I гармония и всеединство или противоположные ей безмерность и бесконечность хаоса.
Совершенно особое место занимает в романтизме тема любви. Может показаться, что ■романтизм здесь ничем существенным не отличается от любого другого течения или эпохи j культуры. Действительно, любви не только все возрасты, но и все эпохи покорны, хотя и на I свой лад. Романтическая же любовь была не только очень своеобразна, но и выражала собой ■самое существо романтизма. Для него она стояла в одном ряду с такими важнейшими реалия- 1 ми как природа, Бог, поэзия. Вне любви к женщине романтик так же не мог состояться, как I и без обращения к природе, Богу, поэзии. Ощутить самое существо того, что значила любовь в глазах романтика, можно обратившись к одной только цитате из Уланда:
«Дух романтической любви заключается в следующем: чувствуя духовное и физическое ^влечение к женщине, мужчина думает в божественном образе найти свое небо. Детская I наивность женщины представляется ему детством высшего мира. Прекрасный покров представляется ему целью всех его стремлений, всей его бесконечности. Отсюда обоготворение ( Любимой и преклонение перед ней. Ее лик, подобный розе, предстает его взору просветлен- ным, из ее очей струится небесный свет. Самый незначительный знак благосклонности кажется ему благословением неба, каждое нежное слово — откровением.
Что здесь видимость, что правда — кто хочет в этом разобраться? Религия и любовь — это то, чего искали и к чему стремились герои!» 35
В приведенном тексте со всей очевидностью проговаривается сближенность, если не тождественность, для романтика любви к женщине и обожения возлюбленной. В ней романтик видит и чистоту первозданной природы и прямо божественные черты. Для него отношения с ней — род священнодействия и богослужения. Одновременно любовь романтика вся пронизана поэзией, она поэтична по преимуществу и представляет собой поэзию, как тако- вую. Как видим, на любви романтик сосредоточил все свои устремления, в ней он видит возможность разрешения тоски и томления, превращения мечты в реальность. Только в связи с любовью романтик может заговорить о своем счастье как о чем-то состоявшемся, а не влекущем и предвосхищаемом. Но при этом характерно, что романтик, как правило, любил и был счастлив. В его любви, поскольку она вообще состоялась, обязательно присутствует какой-то срыв, что-то разрушившееся и несостоявшееся. Что именно — понять очень трудно. Сам влюбленный об этом неизменно умалчивает или отделывается туманными фразами, если за крушением любви не стояли внешние и неодолимые препятствия, в конечном счете «коварство судьбы». Попробуем вчитаться и вникнуть: почему у Байрона Манфред погубил Астарту, а у Лермонтова Печорин расстался с Верой, у Гельдерлина Гиперион — с Диотимой и т. д.? У нас ничего не получится, потому что романтики причину несчастной любви упорно не договаривают. Между тем в самом общем виде она более или менее очевидна. Романтики до такой степени нагрузили любовь к женщине высшими смыслами, так ее сакрализовали, что ее осуществленность означала бы некоторое подобие райского преображения мира, хотя это был бы мир двоих. Романтические ставки в любви непомерно высоки, шансы же выиграть практически неосуществимы. Сам романтик, как минимум, о своих шансах подозревает. Поэтому проигрыш входит у него в правила игры. Романтической любви лучше так и остаться тоской и томлением по бесконечному и абсолютному, по истокам и средоточию жизни. В любви романтику было очень важно, что его мечта, наконец, приблизилась к нему, что она здесь рядом, почти уже не мечта, а реальность. Однако это «почти» обязательно должно сохраниться. Иначе неминуемо разочарование. Божество, которое романтик любит и которому поклоняется, будет десакрализовано. На этот случай, при всей его нежелательности, в романтизме предусмотрен выход. Он допускает существование как тоскующего, томящегося и предвосхищающего полноту обоженной жизни романтика, так и его разочарованного собрата. Разочарованный романтик все равно остается романтиком. Он не просто готов был повторить вслед за поэтом, что «разочарованному чужды все обольщения прежних дней», но и указать на виновного в своем разочаровании.
Оно, кстати говоря, может быть вызвано не только любовью, но и носить универсальный характер, стать разочарованием в жизни как таковой. Такое разочарование тем не менее не меняло в романтизме его исходных оснований, а лишь переиначивало их. По- прежнему для него последней и высшей реальностью оставалась таинственная, непостижимая и бесконечная природа, совпадавшая в своем средоточии с божеством. Только теперь это божество приобретало зловещие и демонические черты. От него разочарованный романтик отворачивался в своем горестном одиночестве или бросал ему вызов. Между немым упреком и богоборчеством могли быть свои градации и промежуточные состояния. Возможен был и романтический демонизм, когда разочарованный романтик отвечал на попрания миром, природой и божеством его заветных мечтаний и чаяний попранием законов божеских н человеческих. Демонически настроенный романтик также возможен, как невозможен, скажем, причастный демонизму просвещенец. Последнему с его здравым смыслом и разумным эгоизмом в крайнем случае были присущи безучастность к ближнему, холодная расчетливость и цинизм. Прямое злодейство в правила игры Просвещения не входило. С романтизмом дело обстояло иначе, вовсе не потому, что он сам по себе был аморален или тяготел к аморализму. Романтический демонический элодей все-таки был романтиком, потерпевшим крушение своих жизненных установок. Но и в этом крушении у него сохранялась тяга к безмерному и бесконечному, величественному, глубокому и таинственному. Теперь она
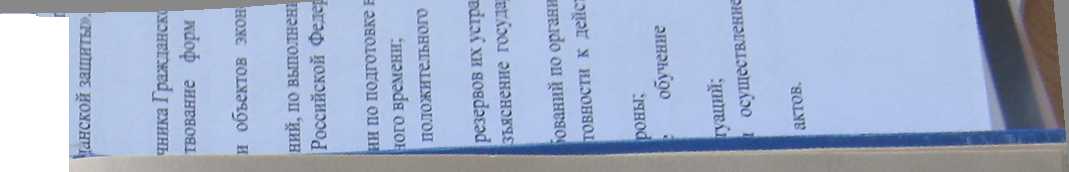
|
реализовалась не в искусстве или любви, не в молитвенном созерцании природы, а в разрушительных замыслах и действиях. Сама их безмерность могла служить оправданием свершенного, удостоверением значительности романтика и, как ни странно, его причастности средоточию бытия, которое теперь воспринималось как непроглядная, таинственная и зловещая тьма. Ведь и «благополучный», если так позволительно о нем выразиться, романтик, занимал уникальную позицию в культуре в том отношении, что для него реальность сверхчеловеческого мира не просто сближалась с поэтической и противопоставлялась прозаической реальности. Она принималась, как таковая, по существу вне разделения в ней противоположных начал. Этими началами в язычестве были сакрально-космические и i сакрально-хаотические начала. В христианстве их раздвоенность носила гораздо более резкий характер, предполагая несовместимость божественного и дьявольского. Романтику не так уж важно, какая реальность перед ним: космическая или хаотическая, божественная или дьявольская. Важнее, что она вне прозы и повседневности, вне относительности и I конечности обыденно-человеческого существования. Это настроение прекрасно выражено у то- ! го же Уланда. Его гимн бесконечному, очарованность им находятся по ту сторону добра и зла. Оно принимается безусловно и безоглядно только потому, что бесконечное — это I бесконечное. Если в нем проявятся зловеще демонические черты, если путь в него будет I означать попрание морали и прямое злодейство, романтик не дрогнет перед подобной перспективой. Впрочем, романтический демонизм и злодейство были прежде всего фактом ро- I ыантической литературы. Разочарованный романтик, создавая демонических героев, был скло- I ней к их оправданию, обнаруживая внутреннюю близость к ним. В этом проявлялось все-таки I умонастроение разочарованных романтиков, их растерянность, в крайнем случае некоторая I степень внутренней готовности к преступлению. Само же преступление и злодейство, по- § скольку оно совершено в здравом уме и трезвой памяти и не вызывает раскаяния, ставит К человека вне культуры и ее течений. Романтизм, разумеется, не был здесь исключением. I Романтик, совершивший тяжкое преступление, становился преступником и переставал быть I романтиком.
Рассмотренные нами черты романтического течения в культуре демонстрируют, в прин- I ципе, одну и ту же тенденцию. Каждая из этих черт по-своему противопоставляет романтизм I Просвещению и вместе с тем характеризует его изнутри, в соответствии с собственной логи- I кой романтизма. Так обстоит дело с романтическим историзмом. Он проистекал из стремления романтизма восстановить разорванные или ослабленные Просвещением связи в культу- I ре- Последнее слишком многое отвергало, отнеся к числу предрассудков, слишком сузило I горизонт европейского человечества. Романтикам в мире Просвещения не хватало воздуха.
Они попытались открыть все окна в европейском доме. И действительно, благодаря им вдруг Встали видимы концы света и различимы ранее, по сути, неведомые исторические эпохи.
Романтики стремились жить не только здесь и теперь, в век разума, отвергающего эпохи I предрассудков. Для них смыслом и неисчерпаемыми духовными ресурсами были наполнены все исторические эпохи: Античность, Средние Века, Возрождение. Но также Восток (араб- | ский, персидский, индийский, юго-восточная Азия). По сравнению с романтизмом все предшествующие периоды западной культуры были слишком глухи к собственному историческому прошлому и тем более к другим, незападным культурам. Сам романтизм в подобной еслепоте и глухоте упрекал прежде всего Просвещение. Для него совершенно неприемлемым стало отвержение прошлого в качестве предрассудка. К тому, что просветители называли {предрассудком, романтики отнеслись совсем иначе. Как именно, проговорено в прекрасных стихах нашего отечественного романтика поздней генерации Е. А. Баратынского:
«Предрассудок! Он обломок
Давней правды. Храм упал;
А руин его потомок
Языка не разгадал,

|
 Гонит н нем наш век надменный. Не узнав его лица,
Гонит н нем наш век надменный. Не узнав его лица,
Нашей правды современной Дряхлолетнего отца.» [118]
В до предела лаконичных строках поэта проговорено самое главное. Не существует и не существовало никогда предрассудка как чистого заблуждения. То, что сегодня представляется таковым, когда-то было истиной. Причем не только в представлении людей прошлого. «Предрассудок» связан преемством с тем, что современный человек почитает за истину. Она развивалась во времени, меняя свой облик, оставаясь между тем истиною. В этом своем качестве она и должна приниматься.
Именно с романтизма началось такого рода понимание иных эпох и культур, когда исследователь не воспринимает их как чуждую себе экзотику или, напротив, не растворяет чужое и чуждое в собственной культуре, не улавливая его своеобразия. Иначе говоря, романтизму в отношении к прошлому и инокультурному равно присущи и чувство дистанции и стремление к пониманию внутренней логики культуры. Такая необыкновенная и невиданная ранее чуткость романтиков в постижении культуры в пространстве и времени тесно связана с их восприятием мира в качестве органического целого, все части которого необходимы, взаимно дополнительны и проникают друг в друга, оставаясь самими собой. Если, скажем, просветитель разделял мир культуры на свет и тьму, рассудок и предрассудок, то для романтика все его проявления были своеобразными и неповторимыми смешениями света и тьмы, игрой линий, красок, тонов и полутонов. Органическое целое мира, мир как всеобъемлющий организм, в свою очередь, состоял в глазах романтиков из входящих во всеобъемлющую целостность организмов, каждый из которых не менее других заслуживал самого пристального внимания. Скажем, романтик никогда не отвернулся бы от Средневековья, как это делали просветители ввиду его чуждости современности. Как раз эта чуждость служила знаком того, что Средние Века необходимо изучать и приблизить к себе. Ведь открытость к ним способствует достижению человеком полноты и целостности бытия. Той полноты и целостности, которая очень мало волновала просветителей с их буржуазным духом. Для человека-работника, каковым был просвещенец, в его жизни важен акцент на результате работы. Самый надежный знак ее результативности — преуспеяние, успех, богатство. Все то, что не просто привлекло Б. Франклина, но обладало для него само собой разумеющимися ценностями и смыслом высшего порядка. Разумно (рассудочно) выстроенное существование, обеспечивающее человеку внешнее благоразумие и внутреннее устроение, вызывает презрение у романтиков. Они смотрят на человека и оценивают его совсем под другим углом зрения. Когда романтик требует от него целостности и полноты, то ему становятся очевидными те реалии, которые чисто в романтическом духе подметил Гельдерлин:
«Ты видишь ремесленников, но не людей; — обличает он свою буржуазно-просвещенческую современность, — мыслителей, но не людей; господ и слуг, юнцов и степенных мужей, но не людей; разве это не похоже на поле битвы, где руки, ноги, все части тела, покромсанные, лежат вперемежку, а пролитая живая кровь уходит в песок?
Каждый делает свое дело, скажешь ты, да и я это говорю. Но человек должен делать свое дело с душой, не заглушать в себе все другие способности, потому что они, мол, не положены ему по званию; он не должен, как трусливый скаред, как самый настоящий | лицемер, стараться быть только тем, чем ему назначили быть; относясь к своему делу взыскательно и с любовью, он должен быть тем, что он есть, — тогда труд его будет одухотворенным, если же он прикован к делу, не имеющему ничего общего с духом, пусть отвернется от него с презрением и учится пахать землю!». [119]
Романтику Гельдерлину неприемлема в современном человеке его частичность, как при- [ пято говорить сегодня, функциональность. То, что человек подчиняет себя одному узкому I делу — функции, не позволяет ему быть самим собой, отчуждает человека от самого себя. В [ этом случае для романтика теряет какое-либо значение жизненный успех. В нем нет никако- I го толку, потому что частичный человек оторван от истоков бытия, не связан всей целостно- [ стью своего существа с мировым целым.
В завершение разговора о романтизме необходимо отметить, что романтизм, наряду с Просвещением, не только не ушел в прошлое, но и остался в западной культуре так, как ни одно предшествующее ему течение или эпоха. Он все еще современен в том смысле, что ; все последующие явления культуры, не исключая и самые современные, так или иначе тяготеют к тому, чтобы быть модификациями Просвещения или романтизма, входить в традицию, идущую от одного или другого. За пределы просвещенческой или романтической схематики духа европейское человечество все еще не вышло до такой степени, что даже индивидуально-личностное существование, индивидуальная биография человека XIX или XX века очень часто легко поддается простейшей классификации на просвещенческую и романтическую. Просвещенцы и романтики пока рядом с нами, просвещенцы и романтики и мы сами.
Глава 5 ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА XIX ВЕКА
Первые годы XIX века, вплоть до 1815 года, когда окончательно был низложен Наполеон и рухнула его империя, можно вслед за Н. М. Карамзиным назвать временем «крови и Нпламени». Четверть века, прошедшую с момента начала французской революции, Европа I жила под знаком ломки считавшихся незыблемыми устоев. Многим современникам, среди I которых были выдающиеся мыслители, казалось, что европейские страны на неопределенно
• долгое время погрузились в хаос губительных перемен. Однако в целом XIX век стал гораздо I более устойчивым и благополучным, чем предвещали его первые пятнадцать лет. Во всяком I случае, такое впечатление он оставляет при взгляде на него из XX века. Если же обратиться к оценке XIX века им самим, то при всем разбросе мнений огромное большинство так называемой образованной публики верило в прогресс и полагало, что пользуется его плодами, как ни одна предшествующая эпоха. Резко преобладало мнение, что в XIX веке наступили времена, когда европейскому человечеству наконец гарантировано неизменное поступательное движение ко все более совершенным состояниям, что ушли в прошлое массовый голод, эпидемии смертельных болезней, религиозный фанатизм, невежество и т. п. Подобные умонастроения набирали силу по мере приближения к концу XIX века. Это приближение было, помимо прочего, еще и движением ко все большей однородности культуры, выравниванию фундаментальных различий, которое осуществлялось, несмотря на наличие разнонаправленных тенденций внутри западной культуры. Начало же XIX века являло собой картину, Достаточно пеструю и разнородную в культурном отношении. Вот как характеризует ее наш ■отечественный мыслитель И. В. Киреевский в написанной им в 1832 году и специально | ^освященной XIX веку статье:
•Но взгляните на европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! Вы встретите отголоски нескольких веков, не столько противные друг другу, сколько разнородные между собою. Подле человека старого времени найде- те вы человека, образованного духом Французской революции; там человека, воспитанного
обстоятельствами и мнениями, последовавшими непосредственно за Французскою революцией); с ним рядом человека, проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле Европы с падения Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека последнего времени, и каждый будет иметь свою особенную физиономию, каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах жизни — одним словом, каждый явится перед вами отпечатком особого века». [120]
В соответствии с утверждением И. В. Киреевского, период конца XVIII — начала XIX веков был настолько динамичен, что, по существу, оказался временем сосуществования целых четырех эпох и, соответственно, четырех человеческих типов, сформированных каждый своей эпохой. Но при этом характерно, что Киреевский, говоря о человеке того или иного века, подразумевает единый для него человеческий тип. По Киреевскому, в Европе последовательно возникали и сосуществовали люди «старого века», времени французской революции, наполеоновской и посленаполеоновской эпох. Ни о каких различиях внутри каждой из этих эпох у него речи не идет. И не потому, что они вообще отсутствовали. На самом деле по* прежнему в западной культуре можно было выделить клирика, дворянина, буржуа и крестьянина. Но, во-первых, сословные различия между ними значительно уменьшились. И, во- вторых, духовенство, дворянство, буржуазия, крестьянство, хотя и в различной степени, были проникнуты единым для всех духом эпохи. В этих традиционных для Запада сословиях уже не было своей собственной и относительно замкнутой культуры. Просвещение, а затем и романтизм носили целиком внесословный характер. И этому нисколько не противоречит то обстоятельство, что Просвещение по своему духу было буржуазным, а в романтизме отчетливо проявились не только антипросвещенческие, но и антибуржуазные тенденции. Идеи Просвещения и романтическое умонастроение одинаково разделяли дворянство и буржуазия, их влияние коснулось и духовенства. Если говорить о культуре конца XVIII — начала XIX века в целом, то бесполезно искать признаки доминирования в ней взгляда какого-либо одного сословия. Эта культура не была ни преимущественно буржуазной, ни преимущественно дворянской, не говоря уже о других сословиях. О конце XVIII — начале XIX века очень часто говорят как об эпохе триумфа буржуазии и буржуазного духа. И действительно, буржуазия во всех отношениях выиграла «в крови и пламени эпохи» несравненно больше, чем любое другое сословие. Собственно говоря, только она целиком и безоговорочно оказалась в выигрыше. И все-таки буржуазная эпоха и буржуазная культура в этот период еще не наступили и не сложились. Ни один из четырех человеческих типов, упомянутых Киреевским, не был типом буржуа. Каждый из них представлял именно свой век, если не в его нолноте, то в господствующей тенденции.
Попытка определить, в чем состояла эта господствующая тенденция, приводит нас к таким характеристикам культуры конца XVIII — начала XIX века, как ее углубляющаяся секуляризация и индивидуализм. И та, и другой были присущи западной культуре со времен Возрождения, но лишь теперь она становится завершенно секулярной и индивидуалистичной. Значимым проявлением дальнейшей и углубляющейся секуляризации западной культуры стала Французская буржуазная революция. Ее ближайшими и конкретными задачами стали уничтожение феодальных прав и привилегий, свержение монархии, установление равенства всех граждан перед законом и т. д: Однако все подобные преобразования исходили из той предпосылки, что люди способны своими собственными усилиями достигнуть некоторого совершенного устроения своей жизни. Принятая Национальным собранней Франции 26 августа в 1789 году «Декларация прав человека и гражданина» исходила из того, что «лишь невежество, забвение прав человека и пренебрежение к ним являются единственными причинами общественных бедствий и пороков правительства». [121]«Невежество».
«забвение» и «пренебрежение» — это свойства человеческие, человеком же они и преодолимы, а вместе с ними преодолимы также «бедствия» и «пороки» людей. Такова в своей основе [истина «Декларации». Как это явствует из ее названия, «Декларация* посвящена правам человека, которые названы в ней «естественными» и «неотъемлемыми». Тем самым они соответствуют человеческой природе, выражают собой ее естество. Когда человек осуществляет свои права, он способен сделать свою жизнь достойной и счастливой. Французская революция и совершалась под знаком обеспечения естественных и неотъемлемых прав человека. По существу, она брала на себя обязательство решить те жизненные задачи, которые тысячелетиями для людей были разрешимы только через соотнесенность со сферой сакрального, в конечном счете через обожение. С позиций революционной доктрины человеку необходимо (обеспечить такие его естественные и неотъемлемые права, как свобода, собственность, безо- | пасность и сопротивление угнетению. Если у человека не будет внешних препятствий к реа- 1 лизации этих прав, он будет способен достигнуть полного благополучия. Когда «Декларация | прав человека и гражданина» провозгласила, что цель каждого государственного союза составляет обеспечение естественных и неотъемлемых прав человека, а революция путем
• насильственных действий создала государство, которое взяло на себя обязательство осуществления указанной цели, тогда в представлении революционно настроенных масс французских граждан наступила новая эпоха в жизни человечества. Знаком ее наступления стало I введение новой системы летосчисления. Счет лет от Рождества Христова заменило летосчисле- I ние от провозглашения Французской Республики. Французы вдруг очутились совсем в другом I историческом времени, не в конце XVIII века, а в первом, втором, третьем году республики. | Эго были не просто годы осуществляемых прав человека, предполагалось, что свободный I народ Франции движется к некоторому абсолютному состоянию. Оно мыслилось как чисто посю- Ветороннее и вместе с тем не оставляло места никакой соотнесенности человека с Богом.
■Декларируя права человека и гражданина, Национальное собрание сочло необходимым предва-
■рить перечень прав словами о том, что оно их «подтверждает и провозглашает перед лицом ■высшего существа и с его благоволения».[122] На этом всякие счеты с «высшим существом»
в «Декларации» и во всей Французской революции заканчивались. Она полагала, что, осуще- I ствляя права человека и гражданина, действует согласно тому, что от нее ожидает «высшее Шсущество». Последнему же от человека ничего не надо, кроме того, чтобы он занимался ■своими человеческими делами и устраивал свою жизнь по своей человеческой мерке. Подоб-
■ные мотивы мы уже встречали у Робинзона Крузо, Б. Франклина и в Просвещении. Фран- I цузская революция внесла здесь нового только то, что провозгласила жизнь в соответствии I с законами разума и осуществляющими их правами человека с осуществляемой в масшта- I бах целей страны реальностью. Для революции это была реальность новой, чисто человеческой эры, в которой человек сам для себя стал высшей целью своих устремлений.
Если Французская революция и ближайшие послереволюционные годы стали своего рода пиком секуляризации культуры, то предел индивидуализма эпохи выражала с наибольшей полнотой и последовательностью фигура Наполеона. Наполеон начинал свою карьеру IПРИ старом режиме, был достаточно заметным лицом в революционной Франции, стал единственным в своем роде человеком в так называемую эпоху Первой империи и, наконец, умер ■через восемь лет после отречения от трона. Таким образом, он принадлежал четырем эпохам | исторического перелома конца XVIII — начала XIX века и вместе с тем стал самым крупным и знаменитым деятелем всех четырех эпох. Поставить с ним рядом некого ни в предреволюционной Европе, ни в эпоху революции, ни в последующие две эпохи. Кто только не отдавал должное Наполеону и не восхищался им! Многим при обращении к образу Наполеона приходило на ум его сопоставление с Юлием Цезарем и Александром Македонским. [Чаще всего только они признавались достойными сравнения с великим полководцем и госу-
’Там;

|
дарственным деятелем. Сам Наполеон по поводу такого рода сопоставлений высказался очень определенно, хотя и слишком коротко для того, чтобы до конца понятным был смысл сказанного им: «Меня сравнивали со многими знаменитыми людьми, древними и новыми, но дело в том, что я не похожу ни на одного из них».[123] Непохожесть Наполеона на своих предшественников состоит не только в том, что неповторим каждый, а не только великий или знаменитый человек. Из числа других великих и прославленных выделяет его доселе невиданный индивидуализм, то, что он уверенно и неизменно центрировал собой все свои действия, видел в себе, и только в себе, их истоки и важнейший результат. Лишь один Наполеон мог сказать по поводу себя нечто подобное: «Я победил королей во имя державной власти; короли же победили меня, заявляя во всеуслышание, что действуют во благо народов*.4’ О чьей и какой державной власти говорит низвергнутый император? Понятно, что
о своей. Но она у него такова, какой еще в Европе никто не обладал. На протяжении многих столетий власть европейских монархов была основана на том, что она божественного происхождения, что каждый монарх воспринимался как помазанник Божий. Считалось, например, что французские короли ввиду своей богоизбранности могли прикосновением руки лечить у своих подданных золотуху. Они правили с Божественного соизволения как пастыри своего народа. Связь между королем и его народом была взаимообразная. Король должен был стремиться к благу своих подданных. Последние же видели в своем короле единственный источник справедливой и устрояющей жизнь Франции власти. Французы служили королю, но и король служил французам. И все-таки он не был только «слугой народа», в качестве первого среди французов. Король прежде всего служил Богу, отвечал перед Ним за своих французов. В свою очередь, французы своим повиновением королю повиновались Тому, Чьим помазанником король считался, отвечая за него перед Ним. Связь короля н народа мыслилась неразрывной, несмотря на всевозможные взаимные неудовольствия. Нерадивый и впавший в соблазн народ король обязан был вразумлять, проявляя то строгость, то снисхождение. Его король для себя не выбирал, он ему вручался Богом. Но и народу короля давал Бог. Поэтому, каким бы этот король народу не казался, как бы он на него не роптал, на королевскую власть народ посягать был не вправе. Монарх соотносился со своей страной наподобие того, как муж соотносится с женой. Их супружество нерасторжимо, и первенство в нем принадлежит королю. Подобный мотив впрямую не проговаривался.
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 480;
