КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 56 страница
I «Слиться со всею вселенной — вот жизнь божества, вот рай для человека!
Слиться воедино со всем живущим, возвратиться в блаженном самозабвении во всебы- тие природы — вот вершина чаяний и радостей, вот священная высота, место вечного отдохновения...
| a и С |
| u CO |
| # i |
Слиться воедино со всем живущим! При этих словах добродетель бросает свои бранные доспехи, а дух человеческий — свой скипетр и все мысли отступают перед образом вечноединого мира... непреклонная судьба отрекается от власти, из круга живых исчезает смерть, я неразделенная связь всего сущего и вечная юность делают мир счастливее и прекраснее». и Если уж с чем-либо сравнивать обожествление и божественность человека по Гельдерлину, то не с опытом христианского обожения, а с явлением более архаичным и даже исконным для первобытности. Я имею в виду ритуал. Как и порыв романтика, он устремлен к растворелности индивидуального существования, отказу от него в пользу всеединства и безличности божественного бытия. На вершине ритуального действа достигается преодолен- ность разрыва между профанным и сакральным мирами за счет сакрализации профанного мира. Это как раз то, чего всей душой жаждет романтик. Но обратим внимание на модальность слов Гельдерлина. О чем они? О достигнутом состоянии? Нет, конечно. В них призыв к нему. Осуществим ли он, по крайней мере? Ни Гельдерлин,.ни Гиперион на этот вопрос не отвечают. Их слова посередине между бытием и небытием. Они мечтательны. Мечта же, поскольку она остается самой собой, не способна отдать отчет о своей реальности. Вроде бы она выдумка и фантазия. Но как полно и напряженно живет ею гельдерлиновский Гиперион, как она его захватывает! Пока он мечтает, «слитность со вселенной» в нем каким-то образом присутствует. Нельзя сказать, что ее вовсе не существует. Другое дело, что мечта оставляет после себя тому же Гипериону. «О, когда человек мечтает, — восклицает Гиперион, — он бог, но когда рассуждает — он нищий; и когда его восторг прошел, он стоит, словно непутевый сын, изгнанный отцом из дому и разглядывает скудные гроши, которые кто-то из милости подал ему в дорогу».24
После ритуала остаются, конечно же, не гроши, а тугой кошель, набитый золотыми монетами. Он обеспечивает целями и смыслами последующее профанное существование, создает надежные рамки и скрепы индивидуального бытия. Непутевым сыном можно было бы назвать того, кто не участвовал в ритуале, мимо него прошли его «глубокие пленительные тайны». Если восторг ритуала, его мистериальная кульминация не чужды опьянению, то j ведут они не к похмелью, а к духовному здоровью и трезвости. Похмельем завершается порыв к мечте, ее восторги. Они оставляют человека даже не со скудными грошами, а с таким же пустым кошельком, с каким он устремлялся в свою мечту. Мечта лишена полновесной реальности не потому даже, что она царит в душе мечтателя, далекая от зримых и плотных реалий повседневной жизни. В этом отношении она не далеко отстоит от ритуала. Мечте решительно недостает сдвига в душе мечтателя, отказа от себя и обретения себя же.
Ей незнакомы ни аскеза, ни благодатность ритуала. «Каким я был, таким я и остался», - только и вправе сказать о себе мечтатель по выходе из своей мечты. Ничем иным мечта завершиться не способна, потому что она представляет собой исключительно «у себя бытие» человека. Свою человеческую данность мечтателю никогда не преодолеть. Разорванность остается уделом и приговором для мечтателя-романтика. Мечтатель — очень странный, с позиций ритуала, человек. Более всего он ценит и вожделеет заведомо не осуществимое. Ради мечты только и стоит жить, ей отданы все смыслы, и между тем в мечте реально не живут. Онтологически она вторична и ущербна, если не .иллюзорна. Ритуал, на внешний и посторонний взгляд, тоже может показаться чем-то ненастоящим, условным и символичным. Но изнутри, для его участников, он бытийствует в полноте, недоступный обыденной, профанной реальности. Скорее уж она, а не ритуал, ущербна, вторична и иллюзорна.
Несколько иначе обстоит дело с героизмом как преодолевающим ритуал существованием. Герой устремлен к неосуществимому, к самообожению и абсолютному существованию. Здесь точка его срприкосновения с мечтателем. Однако это именно точка встречи
разнонаправленных и стремительно расходящихся линий. В подвиге героем неосуществимое реально созидается. Глядя в даль и в высь неосуществимого, герой говорит себе: «Это не достижимо, ну что же, попробуем». Он не вперяет тоскующий взгляд туда, где хотел бы быть, не предвосхищает заданность, оставаясь в данности, а сразу же отрывается от данного. Путь и переход от наличного к должному не иллюзорен, не вторичен и не ущербен. Это особый способ существования, не в бытии, а в становлении. В том, чего как раз начисто лишен мечтатель-романтик. Романтику дано не становление, а непрерывно длящееся в мире обыденного томление. Томиться и значит ощущать разорванность своего бытия на данность и заданность. От становления в томлении то, что испытывающий его отрывается от данного и в то же время не достигает заданного. Однако это тщетный и напрасный отрыв, он не образует моста между двумя мирами. Томление скорее можно уподобить зависанию в пустоте, истомившийся романтик начинает мечтать или же возвращается в безотрадную и постылую данность.
Прервав на время рассмотрение реалий романтического мироотношения и обратившись к реалиям Просвещения, нельзя не ощутить огромность различий между ними в восприятии природы и характере соотнесенности с ней человека. Но как бы ни велико было здесь I различие, его нельзя принимать до конца всерьез. Ведь оно проистекает не просто из того, \ что Просвещение трактует природу и человека так, а романтик иначе. Нужно принимать в расчет еще и то, что для Просвещения очевидна однородность мира, тогда как для мечта- теля-романтика существует мир повседневности и мир мечты. Не в первый раз в европей- ( ской культуре возникает ситуация двоемирия. Когда-то в ней находился рыцарь, наверное, [ первый мечтатель в западной культуре. Параллельно двоемирию рыцарской культуры суще- I ствовало двоемирие высокой и низовой культуры. Своеобразие романтического двоемирия L состоит в том, что романтик ощущал себя живущим в мире, всецело скроенном по меркам Просвещения. Для него реалии, на которых настаивало Просвещение, стали чем-то непреложно данным и вместе с тем неприемлемым. Романтик не мог принять механистичности мира и рациональности человека и его мироотношения, но свое неприятие он не способен был К довершить тем, чтобы увидеть и утвердить мир совсем другим. А если и способен, то только в области мечты и фантазии. Просвещение стало для него миром обыденности и повседневности. В нем романтик был окружен разумными эгоистами, ориентирующимися в законосооб- I разном мире на основе здравого смысла и преследующими каждый свою выгоду и пользу. Вольно или невольно и самому романтику приходилось повседневно отдавать дань разумному эгоизму,! здравому смыслу и утилитаризму. И только на выходе из повседневности, на I грани мечты или в самой мечте романтик становился самим собой, преодолевал свою отчужденность от самого себя. Но из мечты возвращаться в обыденность все рано приходилось. Тем самым существование романтика приобретало двойственность и разорванность. В этой I двойственности и разорванности он оставался романтически настроенным просвещенцем или [ романтиком, не способным преодолеть в себе Просвещение. Просвещение сидело в романтике I гораздо глубже, чем самому ему казалось. От всей души, со всей целеустремленностью он I говорил «нет* Просвещению, «нет» его механистичной природе или плоско-рационалистической трактовке человека. Но как в таком случае романтику отнестись к природе и человеку по- ! своему? Да, он знает, что природа таинственна и чудесна, божественна, и благоговеет перед вей. Если благоговение романтика до конца искренне и жизненно серьезно, казалось бы естественным и единственно возможным для него было бы установить свой культ природы, совершать соотнесенные с ней богослужения. Порой к чему-то подобному романтики бывали близки. Однако в целом их восторженное и благоговейное отношение к природе оставалось мечтательным. Они тосковали и томились в ощущении своей оторванности от природы, жаждали слияния с ней и только. Путь к природе и в природу, а значит, и к Богу, романтикам был заказан или же они обретали его по ту сторону религии, богослужения, культа. Это был путь, сопряженный с мечтой и мечтательностью, не сводимый к ним и поэтому не Целиком иллюзорный, но все же и не обладавший полнотой реальности.
Чтобы понять то, как шел романтик к природе, полноте и божественности, для начала нужно отдавать себе отчет в том, какими были исходные условия его пути. Они были неви> денно своеобразны и заключались в том, что для романтика традиционная и незыблемая оппозиция профанного и сакрального имеет свой особый смысл. У Просвещения в качестве некоторого аналога профанному и сакральному фигурировали реалии тьмы и света, невежества и просвещенности, предрассудка и разума. Соответственно, и путь человек а к полноте своего существования мыслился как движение от одного полюса'оппозиции к другому. Для романтического замещения профанного и сакрального также нет однозначно определенных и всеохватывающих терминов. Но, пожалуй, точнее всего это замещение будет выражено через противопоставление миров прозаического и поэтического. Мир прозы — это повседневность с ее утилитаризмом, рассудочностью, узостью кругозора, мелочностью, механистичностью и т. п. Мир поэзии открывает человеку истину, добро и красоту, органическую связанность и проницаемость всего всем. В мире прозы человек ощущает свою мертвенную отъединенность от истоков и средоточия бытия, он «ненужный атом», тогда как в поэтическом мире ему открывается, что божественная природа — это он сам, человек, природа и божество в своей основе одно и то же.
Романтик никогда не был способен толком ответить на вопрос о том, почему человек, по своей сути принадлежащей миру поэзии, обречен пребывать в прозаическом мире, почему его глубинная суть ему только задана, тогда как унылая данность повседневного существования вовсе не соответствует человеческой природе. Нельзя не признать, что мир романтика очень странен и ни с чем не сообразен. Как-то так получилось, что он вынужден томиться и мечтать о подлинно сущем и неизбывно пребывать в не имеющей никаких божественных оснований реальности. Сам романтик иной раз способен взять вину за случившееся на себя. Тогда становятся возможными признания и рассуждения подобного рода: «Я перешел пределы всего дозволенного. Я отплатил черной неблагодарностью матери-земле, пренебрегал, как скудной платой раба, и своей жизнью, и всеми дарами любви, которые она мне расточала...».25 Оно принадлежит тому же гельдерлиновскому Гипериону, безудержному романтику первого призыва. В нем явственно ощутим мотив грехопадения, отрыва или разъединения человека с божественным миром. Но чего в помине не найти у романтика, так это мотива искупления. Обыкновенно романтик ведет речь не о том, как и почему произошел раскол бытия на низменно-прозаическую и возвышенно-поэтическую реальности, а о том, к чему он стремится, что утерял, какая низменная жизнь его окружает и т. д.
«Ты печалишься не о том даже, что погибло много лет назад, — обращается к Гиперио- ] ну его возлюбленная Диотима, — ведь точно не скажешь, когда это было, когда это кончилось, но это было, это есть и сейчас — в тебе. Ты ищешь иной, блаженный век, ивой, лучший мир».26 В этих строках с максимально возможной для романтика и все же далеко не окончательной ясностью проговаривается то, каков онтологический статут того подлинного, проникнутого поэзией бытия, которому романтик противопоставляет низменно-прозаическое бытие. Он, этот статут, оказывается неуловимо-неопределенным. Возвышенный мир истины, добра и красоты, конечно же, существует, он есть. Но где-то там, в неясном далеке и в дымке. Он есть потому, что в нем все смыслы существования, то, ради чего стоит жить. Существующим его делает изнутри души рвущаяся потребность. Мир поэтический существует потому, прежде всего, что он должен быть. И романтик способен утвердить мир поэтического, сделать должное и вожделенное сущим не только в мечте. Его реальное бытие — это произведение искусства. В нем романтик устраняет разрыв бытия на прозаический и поэтический миры. Художественное творчество для романтика имеет такое же значение, которое некогда имели ритуал и героическое самоутверждение и самопреодоление. Искусство
| а |
| а-о. |


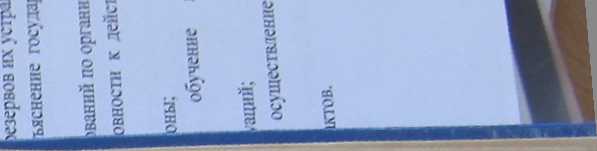
для него «настоящая с таинственным миром связь», и, соответственно, поэт выполняет ту же миссию, носителем которой некогда был жрец или герой. Мир в своей основе, в средоточии своего бытия, поэтичен. Из недр каким-то непонятным образом отпавшего от своего средоточия прозаического мира возникает фигура художника-поэта и восстанавливает утраченное единство. Поэтическое творчество, тем самым, может быть приравнено к мистериаль- ному действию жреца или подвигу героя. Мечтатель-романтик оказывается все-таки способным выйти из бессильной и бездейственной замкнутости в себе и на себя. Создавая поэтическое произведение, он творит подлинную реальность в мире неподлинного. Чего бы еще желать? Однако путь поэта-романтика, как и романтика-мечтателя, может быть поставлен под сомнение в одном очень существенном аспекте. А именно во все том же аспекте онтологического статута таковой реальности, каковой является произведение искусства.
С одной стороны, оно непреложно свидетельствует о состоявшейся причастности романтика миру подлинного и абсолютного бытия. Это удостоверяется его стихами, картинами,
> симфониями. С другой стороны, сам художник остается в некоем обездоленном пребывании , вне своего произведения. Аналог обожения каждый раз происходит не с ним, точнее же, | с той частью его души, которая от художника отделяется и начинает свое самостоятельное, [ вне своего творца, бытие. Мир быта и прозы как бы слегка теснится произведением искусст- Г ва, но затем обступает и обволакивает его, ничуть не поколебленный в своем мнимом, нена- I стоящем бытии. В итоге посредствует между прозаическим и поэтическим миром произведе- ‘ ние искусства, тогда как его творец пребывает в мире прозы вплоть до следующего творческого | акта. Единственный выход, открывающийся романтику, — сделать из своей жизни художественное произведение. Мечтать о мирах иных ~ значит обрекать себя на иллюзорное,
• грезящее существование. Создавая произведение искусства, можно материализовать мечту, I но не как собственное, а внеположенное художнику существование. Остается творить самого I себя, быть божеством не только мира своего творчества, но и всей своей жизни. По видимо- I сти, такой путь смыкается с героизмом. Герой ведь тоже творец самого себя. Вспомним к I тому же, что претензия на самосозидание — это еще и исходный импульс ренессансного к человека. Между тем романтик в своей устремленности к самообожествлению идет своим, I отличным и от классически-героического, и от ренессансного пути.
Очевидно, что ближе ему самоощущение и душевный опыт Ренессанса. Без него не В состоялся бы и романтик в его высшей потенции, тот поэт-художник, которого во времена романтизма стали называть старым и заново переосмысленным словом «гений», он же ху- I дожник и поэт, как и ренессансный творец, он природно божествен. С той только разницей,
I что божественным его рождает природа, а не создает Бог-творец. Кроме того, для романтизма чрезвычайно важен момент выделенности, избранности и исключительности гения- I художника. Ф. Шлегель, например, договаривается до такого утверждения: «Чем являются люди по отношению к другим созиданиям земли, тем художники — по отношению к лю- I дям».[116] Впрочем, это крайняя, экстремистская формулировка. Более распространены были и [ стали общим местом утверждения наподобие другого, принадлежащего также Ф. Шлегелю: •Нет большего мира, чем мир художников. Они живут высокой жизнью». 2вБожественность I поэта, художника, гения проговаривается редко. Для романтика первореальностью является [божественная природа. Поэтому и художник в своей божественности соотносится не с Богом, а с природой. Так, по Новалису: «Истинный поэт всеведущ; он действительно вселенная в малом преломлении».[117]Как видим, романтизм вполне разделяет ренессансное представление о человеке как божестве от природы, а не свободы. Внолне ио-ренессансному звучат и слова романтика о пути обожения человека: «Всякий хороший человек все более и более
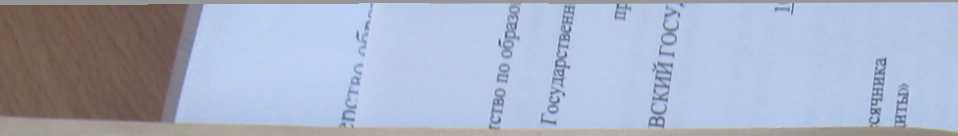
|
становится Богом. Стать Богом, быть человеком, развить себя — все эти выражения означают одно и тоже».
Ф. Шлегель как будто проговаривает обычное для Ренессанса представление о человеке, чья природе потенциально божественна и его жизненная задача состоит в актуализации своих потенций. Не в преодолении человеческой природы и выходе в сферу божественного бытия как у героя, а именно следовании своей природе. Неренессансными слова Ф. Шлегеля делает ставшая проблематичным для романтика возможность «хорошему человеку» стать Богом, Настоящего пафоса саморазвития у романтика нет и никогда не было. Развитие вело его к созданию шедевра в искусстве, к попытке сделать из своей жизни художественное произведение-шедевр. Но достигнутости божественного состояния или хотя бы приближенности к нему романтику ощутить не дано. Бог в мечтаниях, в йроцессе творчества, он постоянно ощущал собственную неотрывность от мира быта и прозы. Он сам и окружающий мир романтику не принадлежали, не воспринимались им как материал творческого переустроения. От самого себя и от окружающего мира романтик отвлекался и воспарял. Даже если он строил свою жизнь по романтическим канонам, жизнь эта становилась искусственной, поэзией поверх и над прозой или сквозь нее. Проза не пересоздавалась, а игнорировалась. Романтически выстраивая свою жизнь, романтик грезил наяву. Смотрел и не видел, слушал и не слышал, а точнее, в видимом и слышимом усматривал свои образы и ловил свои звуки. Мечта и мечтательность так или иначе опутывала собой романтика и в создании поэтического произведения, и в стремлении жить поэтически. Всякая его попытка обожения неизбывно мечтательна, будь это собственно мечтание, художественное творчество или романтически проживаемая жизнь.
Как раз мечтательность вполне чужда ренессансному творцу. Никуда он не воспаряет, а напротив, обеими ногами стоит на земле в уверенности, что она станет для него небом. Не нужна ему по существу и религия. Ренессансный творец обоживает себя сам и ни в чьей помощи на этом пути не нуждается. Иное дело романтик с его жаждой припасть к истокам бытия, едва ли не раствориться в них. Религиозная жажда у него неизбывна и он стремится ее удовлетворить. Понятно, что религиозность романтика имеет мало общего с христианством. Вот как проговаривает ее Ф. Шлегель, человек, который, кстати сказать, закончил свои романтические религиозные искания обращением в католицизм: «Хотя то, что называют обычно религией, кажется мне чудеснейшим, величайшим феноменом, в строгом смысле я могу признать религией только то, когда божественно думают, и творят, и живут, когда полны Бога; когда дыхание молитвы и вдохновения разливается над всем нашим бытием, когда ничего не делают по обязанности, но только из любви, только потому, что хотят, и когда хотят потому, что это говорит Бог, Бог в нас».30По-своему Ф. Шлегель выражает действительно религиозное состояние человека. Но обратим внимание: он сосредоточен только на одной стороне религиозности — человеческой. Романтик хорошо знает, что испытывает религиозно воодушевленный человек. Но он, так жаждущий полноты бытия и божественности, не знает и знать не хочет религиозного пути к Богу. Для романтика связь с Богом — это неизвестно откуда пришедшие и вошедшие в него полнота и блаженство. Они никак не связаны с предваряющими их выбором, отречением, аскезой. Тем более не соотнесен романтик с Церковью. Как это ни покажется странным, он религиозен вне религии: «Всякое отношение человека к бесконечному, — пишет Ф. Шлегель, — есть религия, а именно в отношении человека во всем богатстве его гуманности».31 В этих строках романтиком Шлегелем договаривается до конца то, что впервые было заявлено Реформацией. Ее вожди провозгласили, что путь человека к Богу осуществим прежде всего в миру, через обычные человеческие дела, если они осуществляются для Бога, как служение Ему. Тем самым религиозной, почти совпадающей с религией, становится вся человеческая жизнь. В дальнейшем тенденция развития подобной религиозности состояла в том, что человек
во все большей степени освящал, придавая им религиозный смысл, не просто человеческие дела, но и те из них, которые направлены на самого человека. Мы видим нечто подобное и у Робинзона, и у Франклина, и у просветителей. У всех них человек озабочен исключительно самим собой и в то же время считает, что этим служит Богу. Романтик уже никому не служит даже остаточно, даже по привычке считать служением свои заботы о себе. У него есть ощущение бесконечности бытия, конечности и относительности своего наличного состояния. Конечное рвется к бесконечному, человек жаждет припасть к истокам «всебытия природы». Такой порыв и есть религия без служения Богу и без Самого Бога, с одним только религиозным порывом неопределенного свойства.
Когда романтики пытались конкретизировать свою религиозность, они, как правило, шли одной и той же проторенной еще на заре романтизма тропою. Для них сближение религии и искусства было таким же естественным, как то, что просветители уподобляли религию науке и нравственности. Приведем одно из свидетельств тому, которое на этот раз принадлежит еще одному великому германскому поэту, Новалису: «Чувство поэзии имеет ыного общего с чувством мистического. Это чувство особенного, личностного, неизведанного, сокровенного, должного раскрыться, необходимо-случайного. Оно представляет непредставимое, зрит незримое, чувствует неощутимое и т. д. ... Чувство поэзии в близком родстве с чувством пророческим и с религиозным чувством провидения вообще».32 В приведенных строках романтик Новалис, по сути, раскрывает нам то, каким образом возможно осуществить порыв другого романтика — Гельдерлина — «возвратиться в блаженном самозабвении во внебытие природы». Благодаря поэзии (искусству), которая по своей природе религиозна, человек проникает в средоточие бытия, пребывает в Боге, сливается с Ним и сам становится Богом. Не только за счет того, что, как мы это уже видели у Гельдерлина, природа, Бог и человек родственны и в своей глубине тождественны или, как это формулирует Ф. Шлегель: «Бог есть все абсолютно Изначальное и Высшее, следовательно, сам индивидуум в высшей потенции. Но не являются ли также индивидами природа и мир?» 33Не менее важно и то, что в слиянии человека с природой и Богом в нем исчезает личность. Для романтика в пределе существует нерасчлененное всеединство, где все индивидуальные различия растворяются и исчезают. Романтизм совершенно нечувствителен к христианской доктрине о существовании сверхприродного, надмирного Творца. Ничего здесь не подсказывает романтикам и их живой религиозный опыт. У них Бог — это глубина и средоточие вещей, а вовсе не личность, поэтому и в человеке они не видят устойчиво личностного начала, не отстаивают его. Видимо, романтики с легкостью подписались бы под словами Геродота о том, что смерть для человека лучше, чем жизнь, если под смертью понимать возвращение в до- личностное всебытие. Пафоса борьбы с миром, его преодоления и преобразования в романтизме нет в помине. В этом отношении романтик — прямая противоположность ренессанс- вого человека-творца. Ренессансный творец стремится мужественно преодолеть мир, из глыбы мрамора извлечь статую, дикорастущие деревья превратить в сад. Его потомок такого мужества лишен. Он женственно-восприимчив-и по-детски послушен миру. Если романтик творит, то не накладывая на мир свою форму, а скорее вслушиваясь и вглядываясь в него. В романтизме над самостоянием и претворением образа-формы в действительность преобладает выражение через себя того, что бесконечно превосходит творца.
Сказанное не отменяет остроты индивидуально-личностного самоощущения в романтизме. Хотя и по-своему, романтик не меньший индивидуалист, чем его предшественники. Но его индивидуализм изначально какой-то усталый и надломленный. Усталость у романтика, ло-видимому, от неприятия и отвращения к поглощенности человека Просвещения своими человеческими делами и заботами, от просвещенческой рассудочности и утилитаризма.
Ренессансный и утилитарный индивидуализм ему неприемлем. Отсюда романтическая мечтательность. Но отсюда же и романтическое стремление ощутить в человеке и в мире нечто рассудку неподвластное. Романтик жадно ищет во всем нечто таинственное и непостижимое. ему подавай неисследованную глубину всех вещей. В этом для него спасение от опостылевшей повседневности. Он готов столкнуться со страшным, ужасным, демоническим, только бы преодолеть слишком явную самоочевидность плоской, одномерной реальности. Любой предшествующей эпохе показалось бы странным и диким то, как подхлестывал в себе романтизм тягу к тому, что тысячелетиями культура преодолевала и подвергала заклятию. Уже шла речь о том, что романтики впервые увидели в хаосе продуктивное и творческое начало, становящуюся и животворящую все природу. Но они готовы были глядеться и в хаос как таковой, ощущать именно его хаотичность и находить в нем близкое себе начало. Вот одно из свидетельств сказанному, принадлежащее перу Л. Уланда:
«Бесконечное окружает человека, тайну божества и мир. От человек а скрыто, чем он был, есть и будет. Очаровательны и ужасны эти тайны. Здесь вокруг его одинокого корабля простирается бесконечный океан, человек содрогнется перед глухим шумом, в котором ему чудится шторм. И даже если он достигнет земли, — уверен ли он в том, что океан, окружаю* щий сушу, не вздымается мощно и не поглотит его вместе с ней.
Так вздымается над ним и над всем земным священный эфир. Мысль хочет подняться в это богатое звездное небо с его холодными бессодержательными треугольниками. Лучшие силы души тянутся с бесконечной тоской в бесконечную даль. Но дух человека, хорошо чувствуя, что он никогда не сможет постичь бесконечное во всей полноте, и устав от неопределенно блуждающего томления, соединяет вскоре свои страстные желания с земными картинами, в которых ему все же чудится отблеск сверхъестественного; с величайшим благоговением он будет вбирать в себя эти картины, прислушиваться к их малейшим призывам...
Но и тот ужасный мир посылает нам свои образы — страшных ночных духов. Знаменательные голоса слышим мы из темноты. Почти в каждом образе, содержащем намек на тайну, мы видим предчувствие именно той великой тайны, к которой всегда сознательно или бессознательно стремится наш дух.
Это мистическое проявление нашего глубочайшего духа в образе, это вторжение мирового духа, это очеловечивание божественного, одним словом: это предчувствие бесконечного в видимом и воображаемом и есть романтическое». 34
Перед нами уже третий по счету текст, в котором новоевропейский человек глядится в бездну бесконечного мира. Мы помним как завороженность и страх Паскаля, так и восторг и энтузиазм Мерсье. Один из них ощущал затерянность и исчезающую малость человека с его бессильным разумом, второму внятны были прежде всего порядок и разумность мироздания, к которому человек причастен благодаря своему разуму. Романтическое умонастроение Уланда равно чуждо Паскалю и Мерсье. Он сполна ощущает вслед за Паскалем бесконечность и несоизмеримость с человеком окружающего мира. Не совсем чужд Уланд и паскале- вой тоске и завороженности. Но для него тайны мира не только ужасны. Они еще и очаровательны. Конечно, это совсем не восторги Мерсье перед законосообразностью бесконечного мира. Его бесконечность, по Уланду, не позволяет заглянуть в себя, причаститься ее. Она остается недоступной человеку и этим его ужасает. Ужасает и вместе с тем влечет. Бесконечность мира задевает какие-то струны в душе романтика, которые звучат в унисон с ней. Человек оказывается вовсе не чужд бесконечному. Стоит ему отвернуться от непостижимо» бесконечности и направить свой взор к «земным картинам«, как в этих картинах человеку чудится отблеск сверхъестественного, иными словами, того же бесконечного, как его понимали романтики. Получается, что человек причастен сразу двум мирам, он конечное существо в обращенности к бесконечному миру, так же как и бесконечное существо в конечно»*
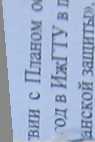
|
мире. Хаос и космос, если обратиться к исходному измерению реальности, соприкасаются в человеке. Однако все своеобразие романтической ситуации, повторим это, состоит в том, что романтик имеет в себе хаотическое начало. Не только не стремится к его космизации, а, напротив, влечется к нему во всей его хаотической безмерности и бесконечности. Бесконечное описано Уландом поэтически, но сравним его описание с сухой математической прозой Паскаля или холодной и пустой риторикой Мерсье. Конечно, текст Уланда — это не самый высший образец романтической литературы. И все же это поэзия в прозе. Она стала возможной для автора потому, что он действительно задет безмерным. Оно влечет его. И на-
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 488;
