КУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ 53 страница
То, что Робинзон устраняет здравым размышлением всякий намек на сакрализацию природы, что она у него до предела обмирщена, пока вполне соответствует протестантскому взгляду на мир. Но Робинзон идет дальше. Для него Бог и его противник дьявол вообще не присутствуют в мире. По поводу Лютера существует известный рассказ о том, как он запустил в черта чернильницей. Значит, для него черт был чем-то вполне реальным, а вовсе не отвлеченным принципом зла. С Робинзоном, что касается дьявола, случились на его острове совсем другие истории. Впервые он вспомнил о дьяволе, когда на противоположной обжитой им стороне острова Робинзон заметил след человеческой ноги. «Минутами я начинал думать, — рассказывает он, — что это дьявол оставил свой след, и рассудок укреплял меня 1 этой догадке». Однако по зрелом размышлении Робинзон находит мысль о присутствии на
острове дьявола неубедительной. И дальше он проговаривает очень знаменательную мысль:
• Но если то был не дьявол, то возникало предположение гораздо более устрашающего свой* ства: это дикари с материка, лежащего против моего острова». Поистине у Робинзона полу, чается, что черт не так страшен, как его малюют. Есть в мире вещи и пострашнее дьявола. Строго говоря, нечто подобное возможно лишь для того, для кого дьявол превращается в нечто абстрактное и отвлеченное, кто в него до конца всерьез не верит. В следующий раз, заподозрив присутствие дьявола в пещере, свое почти неверие Робинзон опять-таки проговаривает: «Кто прожил почти двадцать лет один-одинешенек посреди океана, тому нечего бояться черта...» На наших глазах у Робинзона совершается полная и окончательная десакрализация природы. В ней невозможны не только чудеса, но, присутствие сверхъестественных сил. Если они действуют, то лишь через природу и в природе, через человека и в человеке. Но вспомним, что и природа замкнута на себя в своем безразличии к человеку, и человек занят одним собой, собственным устроением. Он осваивает и подчиняет себе природу, работает над ней, Бог же ему в этом помощник и не более. Никуда за пределы мира и природы Он человека не зовет.
Вся новизна позиции Робинзона станет очевидной, стоит сопоставить ее с позицией другого странника, тоже заброшенного на необитаемый остров. Этот странник — Симпли- циссимус из одноименного романа Якоба Гриммельсгаузена. Свой роман он создавал за полстолетия до «Робинзона Крузо». Гриммельсгаузен, как и Дефо, был протестантом. Но он жил в Германии, и его протестантизм оставался стадиально гораздо более ранним, чем у автора Робинзона. Соответственно, и восприятие мира и природы в романе Гриммельсгаузена оставалось добуржуазным, несмотря на весь его протестантизм, близкий к средневековому. Герой его романа, в отличие от Робинзона, очутился на необитаемом острове вдвоем с плотником корабля, потерпевшего крушение. Вот их первая реакция после спасения из океанской пучины: «Тут упали мы на колени, целовали землю и возблагодарили Всевышнего, что Он отечески сохранил нас и вывел на#сушу».[111] Робинзон тоже, «очутившись на земле целым и невредимым ... поднял взор к небу, возблагодарив Бога за спасение ... жизни». Дальше их пребывание на необитаемых островах будет в корне различным. Симплициссимус с товарищем спасут тонущую негритянку, и она присоединится к их компании. Далее естественным образом возникнет ситуация любовного треугольника, заговор плотника и негритянки против Симплициссимуса, но заключится он немыслимым для Дефо и Робинзона образом: «Я же, злополучный бедняга, вернулся, ни на волос не заподозрив их сделку и проделку, и сел к ним, дабы вкушать то, что было приготовлено, а перед тем по христианскому и весьма похвальному обыкновению произнес застольную молитву. Но едва только я сотворил крестное знамение над кушаньями и моими сотрапезниками и призвал на них Божье благословение, мигом все исчезло: и наша стряпуха, и ящик со всем тем, что в нем было, оставив по себе столь страшное зловоние».[112] Оказалось, что спасенная Симплициссимусом и корабельным плотником эфиопка была дьяволом, который не без успеха подвергал их искушению. От него нельзя скрыться ни на каком необитаемом острове. И на нем человек сохраняет свою соотнесенность с Богом и врагом рода человеческого и только потом — с природой. Природа Симплициссимусу и его товарищу тоже ничего не дала даром, с ней нужно было бороться и ее осваивать. Но этим далеко не исчерпывались заботы Симплициссимуса даже после того, как его товарищ умер и он стал таким же одиноким, как Робинзон. Его одиночество стало прежде всего молитвенным предстоянием Богу и только потом — соотнесенностью с природой. Впрочем, если быть точным, чем далее, тем более никакой соотнесенности с чем бы то ни было или с кем бы то ни было, кроме Бога, у Симплициссимуса не было. Они окончательно сменились таким настроением: «Сей малый остров должен был стать для меня
целым миром, и всякая вещь в нем, всякое деревцо служить напоминанием и побуждать к благочестивым помыслам, приличествующим всякому честному христианину. Итак, узрев какое-нибудь колючее растение, приводил я себе на память терновый венец Христа; узрев яблоко или грацат, памятовал о грехопадении наших праотцев и сокрушался о нем... Такими и другими подобными мыслями я каждодневно упражнял себя; я никогда не вкушал пищу, не припамятовав о Тайной вечере Господа нашего Иисуса Христа, я не сварил ни [ одной похлебки без того, чтоб сей временный огонь не напомнил бы мне о вечных муках I во аде*.?1
Только оставшись на необитаемом острове, Симплициссимус сумел обрести Бога. Вне . уединения это было для него неосуществимо, и в этом он истинный протестант. Но после к обретения Бога никакой природы самой по себе для Симплициссимуса уже нет. Каждый I момент соотнесенности с ней обращает его к Богу, служит поводом для встречи с Ним. I Симплициссимус смотрит сквозь природу и видит за ней Священную историю Ветхого и Но- I вого Завета. Сакральный мир он обратно десекуляризует, делая его миром духовным. На I необитаемом острове Симплициссимус превращается в отшельника. Вначале вынужденно- I го, а потом и добровольного. Ничего более далекого от Робинзона и несовместимого с ним в представить себе невозможно. Он-то был на острове не отшельником, а собственником. По- I том, покинув остров, Робинзон оформил свое право собственности на остров юридически. Вот чем закончилось его двадцатилетнее вынужденное уединение. Ничего внутренне оно в нем не изменило, если не считать того, что у него прибавилось житейской опытности, К осторожности, благоразумия. Робинзон — это буржуа, и буржуазность всегда с ним. Один к ли или в обществе, сбился с пути или уверенно обрел его, забыл ли о Боге или обратился I к Нему. Жизнь для Робинзона возможна только в секуляризованном мире, ни о каком В- другом он и не подозревает.
Мифологема Робинзона чрезвычайно важна для нас в том отношении, что она задает I основные параметры буржуазности, проявляет в ней самое существенное. И все-таки Робин- I зон — вымысел писателя. В отличие от него Бенджамен Франклин — реальная историческая I фигура. Причем очень значимая в американской истории. Он стоит у истоков американской Ь независимости и государственности. Но, помимо этого, в нем необыкновенно сильно, ярко и I последовательно выразился так близкий Америке буржуазный дух. Не в меньшей степени,
[ чем Робинзон, Франклин был буржуа по преимуществу. Некоторые моменты его жизни,
[ отраженные в «Автобиографии» Франклина, заставляют вспомнить о Робинзоне, другие де- I тализируют то, что несомненно было присуще Робинзону, но осталось за пределами книги Д. Дефо. Франклин, как и Робинзон, был индивидуалистом, утилитаристом, неустанным и предприимчивым работником-предпринимателем. Наконец, обоим им свойственны последо- вательность и методичность выстраивания своей жизни. С той только разницей, что Франклин начал выстраивать ее уже в молодости и по своей охоте, Робинзон же приходит к этому на необитаемом острове. Цель жизни у Франклина чисто буржуазная — состояние и богатство, но не во что бы то ни стало, не любой ценой. Путь к нему по-прежнему соотнесен с \ Богом. Рассмотрим, каким образом на этот раз.
Богатство, наставляет читателя Франклин, отгоняет заботы, день и ночь гложущие нашу жизнь. Мы радостно смотрим в будущее, если только мы сохраняем при этом спокойную совесть. Это должно быть основой всякой наживы. Всегда правильно поступать и делать Добро из почтения к Богу, из уважения к человечеству — дает охоту всякому предприятию. Иметь Бога всегда перед глазами н в сердце, вместе с разумной работой, продолжает свои наставления Франклин, есть начало искусства разбогатеть; ибо как помогла бы вся нажива, если бы мы должны были опасаться Того, Кто есть Господь миров, и какую бы пользу принесли нам деньги, если бы мы не могли обращать взоры к небу.
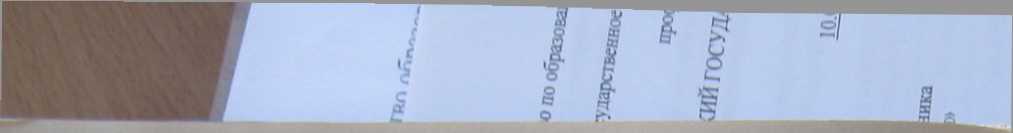
|
У Франклина Бог окончательно превращается в подспорье человеческого земного благополучия, последнее же сводится к богатству. От Бога исходят заповеди — правила, в соответствии с которыми должен поступать человек. От человека — стремление к обогащению и дальнейшему увеличению богатства. И задача его состоит в том, чтобы совместить свое обогащение с соблюдением божественных заповедей-правил. По Франклину, это вполне возможно и приводит человека к счастливой жизни. Но у него, как и у Робинзона, и намека нет на то, что Бог требует от человека нечто за пределами мирских забот и мирского устроения. Оба они живут в секулярном мире с его секулярными заботами и ориентирами и не подозревают о возможности миров иных. Разница между ними только в том, что стремление ко все большему обогащению у Франклина неизбежно и незавершимо, тогда как Робинзону присуща некоторая умеренность, он серединней своего собрата и единомышленника.
К богатству, как это понимает Франклин, ведет не только неустанный труд и предприимчивость, обращенные к миру через его дело-предприятие, но и такая же неустанная работа над собой. В этой работе он так же методичен, как и в любой другой. Заключалась же она в выработке Франклином у себя важнейших, с его точки зрения, добродетелей. Их он выделил 13. Затем в специальной тетради расчертил на каждой странице по таблице. В ней по горизонтали шли дни недели, по вертикали — тринадцать добродетелей. Какой-нибудь одной из них Франклин уделял преимущественное внимание в течение недели. Уклонение от нее прежде всего отмечалось в соответствующей клеточке. Не оставлялись без внимания и другие добродетели. Уже сам подход к добродетелям, стремление поочередно упражняться в каждой из них свидетельствует об их характере. Ведь не каждая из них поддается дрессуре и может проявляться человеком специально. Нужно сказать, что значимыми для Франклина были как раз добродетели, более или менее доступные упражнениям. Среди ннх: «1) выдержанность в еде и питье; 2) немногословность, способность избегать пустых разговоров, от которых нет пользы ни одному из собеседников; 3) порядок; 4) решительность, неукоснительное выполнение того, что решено; 5) бережливость; 6) трудолюбие; 7) искренность, отказ от обмана; 8) справедливость; 9) умеренность; 10) чистота, опрятность в одежде и в жилище; 11) спокойствие, то есть способность не волноваться по пустякам, из-за неприятностей обычных или неизбежных; 12) целомудрие; 13) скромность.» 12
То, что франклиновские добродетели способны привести человека к обогащению, не поссорив его с франклиновским же Богом, более или менее очевидно. Но обратим внимание и на другое: все они, хотя и в разной степени, представляют то, что в социологии принято называть ценностями-средствами или инструментальными ценностями. Они отличаются от ценностей-целей тем, что последние самоценны, их цель содержится в них самих, тогда как ценности-средства всегда существуют для чего-то, обслуживают какие-либо цели. Так, например, решительность и немногословность сами по себе не хороши и не плохи, у них нет самостоятельной ценности, так как они могут обслуживать прямо противоположные цели. Ведь можно быть решительным в добре и зле, а немногословным — читая лекцию и отдавая приказания во время атаки на неприятеля. Сходным образом обстоит дело и с другими франклиновскими добродетелями. Среди них неабсолютна даже и искренность. Поскольку ее можно себе представить и в отношении доносчика и сплетника. Пожалуй, единственное исключение составляет добродетель целомудрия. Но она производит странное впечатление среди своих соседей — инструментальных по преимуществу добродетелей. Все они служат инструментом одной цели — достижению богатства. Самое интересное же состоит в том, что богатство само по себе относится к ценностям-средствам. Франклин это прекрасно сознает, когда говорит, что оно «добывает средства для многих полезных и почетных предприятий»* И все-таки все его упражнения в добродетелях были связаны с обогащением. Вез него онв потеряли бы для Франклина свою привлекательность, пропал бы смысл его методически-
последовательных упражнений. Как ни верти, а Франклин, пускай с оговорками и ограничениями, подчинял инструментальные ценности своей жизни такой же инструментальной ценности, которая была для него главной. Тем самым вся его жизнь вращалась вокруг средств и не имела цели или, что то же самое, превращала средство в цель. Но если для человека цель прйобретает значение средства, то и он сам становится средством для самого себя. Так и произошло с Франклином, когда он подчинил свою жизнь обогащению и богатству, последние же оставил самоценными, не подчиненными никакой высшей цели. Да, Франклин признавал только честное обогащение и честное использование богатства. И что же, по- настоящему его одушевляет только один пафос. Пафос того, как извлекать из богатства его же самое во все больших количествах. Об этом им написаны прямо-таки проникновенные строки: «Помните, что деньги обладают способностью размножаться. Деньги могут производить деньги, и эти новые деньги могут тоже рождать деньги и т. д... Чем больше денег, тем больше они производят при каждом обороте, так что прибыль растет быстрее и быстрее. Тот, кто убивает одну свиноматку, уничтожает всех ее отпрысков до тысячного поколения. Тот, кто уничтожает одну крону, уничтожает все, что она могла произвести, — десятки фунтов».13
В приведенном отрывке у Франклина почти болезненное отношение к необходимости тратить деньги. Они должны идти в рост, то есть служить самим себе. Человеку же остается место при деньгах. Теперь не они средство для его жизни, а человеческая жизнь становится средством добывания денег. Возведенная в ранг ценности-цели ценность-средство порабощает себе того, кто возвел ее в непозволительный для нее ранг. И самое удивительное, что делал это человек законченно индивидуалистической ориентации, тот, для кого его собственное благополучие является всем. Дело-то в том, что это благополучие понимается чисто внешне, как присвоение себе мира без того, чтобы раскрыть себя миру и впустить его в себя, сделав его своим уже не внешним, а внутренним богатством. Такое же возможно для творца, а не работника, для человека самореализации, а не выгоды и пользы. Но и человек- творец, чтобы творить, должен раскрывать в себе кого-то большего, чем он сам, и вмещать в себя не только мир, но и того, кто его сотворил. Это знали предшествующие Новому Времени эпохи, его сохранили и в Новом Времени люди совсем не буржуазного типа и буржуазной ориентации. Для них действительными и первостепенными были не ценности-сред- ства, а ценности-цели. Скажем, любовь к Богу и ближнему и милосердие. О них уже не скажешь, для чего они существуют и какие цели обслуживают. Цель таких ценностей — в них самих. Если человек любит и милосерден, он достигает цели своей жизни, совпадает с ней. Было бы пустым софизмом спрашивать: «Зачем ты любишь?» или: «С какой целью проявляешь милосердие?». В любви и милосердии человеку некуда дальше стремиться, его жизнь достигает точки своей полноты и завершенности. В ней пребывает сам человек. Конечно, его знание истины может для чего-то пригодиться. Но прежде всего оно представляет собой то состояние полноты и гармонии с самим собой, которое недоступно никакому обладанию самым большим состоянием. С богатством обязательно надо что-то делать. С любовью, милосердием, знанием истины делать ничего не нужно, в них пребывают. Правда, такие вещи буржуа плохо понимает и совсем не склонен сосредоточивать на них свое внимание;
Фигура дворянина в новоевропейской культуре появляется приблизительно в то же время, что и буржуа. Видимо, со всей определенностью дворянин отделился от своего предшественника-рыцаря только к XVII веку. Отделение дворянства от рыцарства никогда не было разрывом, оно совершалось постепенно и далеко не сразу было осознано. Тем не менее в XVII веке западноевропейская знать, благородное сословие, прежде всего во Франции, Англии, Италии, вполне отчетливо осознавала свое отличие от средневековых пред
ков. Последние жили в иные и давние времена, во многом представлявшиеся теперь диковинными, а о чем-то и варварскими. Дворянин гордился своими предками, хотя сам был другим человеком, чем они. Его инаковость проявляется во всей своей очевидности, стоит сопоставить дворянина и рыцаря по такому ключевому для последнего критерию, как служение и верность. Мы помним,что рыцарю вменялось служить и быть верным сюзерену. В этом состояла его вассал ьная присяга — оммаж. Но рыцарь служил и был верен еще и Богу и Церкви. В рыцарский кодекс чести, взятый по максимуму, входило еще н служение даме, а также своему ближнему, если он слаб и унижен. В последнем случае в дело вступало рыцарское великодушие, но в не меньшей степени еще и христианские добродетели.
Если обратиться к дворянству, то можно привести сколько угодно примеров, когда его служение распространяется и на Церковь, и на малых сих, и на даму, и на свой род, и на государя. Весь вопрос только в том, насколько внутренне обязательны все эти служения для дворянина. Если применить этот критерий к дворянскому служению, то окажется, что Церкви он может служить, а может и не служить. Ни в том, ни в другом случае его дворянское достоинство не будет ни превознесено, ни потерпит ущерба.
Точно так же с простолюдином, будет ли дворянин с ним изысканно веяслив, пренебрежительно равнодушен или груб, жесток, снисходителен, справедлив, милосерден, защитит он его или бросит на произвол судьбы, в любом случае к дворянскому достоинству то, как он относится к простолюдину, прямого отношения не имеет. В отличие от служения Церкви и самым тесным образом с ним связанного служения униженным и оскорбленным, по-прежнему очень значимо для дворянина служение своему роду. Он аристократ ничуть не в меньшей степени, чем рыцарь. Так что здесь менее всего проявлены различия между служением дворянина и рыцаря. Оно явно обозначается при обращении к служению государю, сохраняющему свою власть и над дворянином.
Для рыцаря служение государю — это только одна из его разновидностей, часто оно опосредовано служением своему непосредственному сюзерену. Во Франции XVII века еще во времена Фронды дворяне, во всяком случае значительная их часть, не были свободны от служения своим сюзеренам, прежде всего пэрам королевства. Впрочем, и тогда такое служение было остаточным, быстро уходящим в прошлое. В принципе, дворянин, освободившийся от пережитков рыцарства, знает над собою долг служения одному только государю. Этот долг не так непреложен, как служение рыцаря сюзерену. Последний вне такого служения вообще немыслим, если только он не вступил в духовно-рыцарский орден. Дворянин, вообще говоря, мог не служить своему государю. От этого он не терял ни дворянства, ни своих поместий. Но и нельзя сказать, чтобы его дворянскость не терпела никакого ущерба. Все- таки нормальный, «настоящий» дворянин должен служить. Как минимум, его служение очень желательно в глазах государя и дворянского сословия. Между тем служение дворянина государю или рыцаря сюзерену, пускай им будет даже король, далеко не одно и то же. Рыцарь служит практически исключительно лицу, не Французскому королевству, а французскому королю. Служение дворянина также соотнесено с лицом, но для него оно не самодовлеет. За лицом стоят государство и страна. Государь, которому служит дворянин, персонифицирует их собой. Это не так просто — разобраться в вопросе о том, что значит служить государю, а в его лице государству и стране. Скажем, дворянин входившего в состав Российской империи Великого княжества Финляндского барон Карл Густав Маннергейм присягал и служил верою и правдою двум российским императорам. Когда же в 1917 году империя рухнула, он счел себя свободным от присяги и, более того, способствовал отделению Финляндии от России. Сделать на этом основании вывод о том, что барон Маннергейм служил только данному лицу — Александру III или Николаю II — было бы преждевременно. В его служении царствующий легитимно император и империя совпадали. Если бы в революционной заварухе Николай II и уцелел и признал вынужденным, а не добровольным свое отрече
ние, вполне возможно представить Майнер- гейма, вставшего под знамена государя-им- ператора. Присяга его обязывала. Но чего невозможно себе вообразить, так это присягу финляндского барона другому иноземному государю при существующем российском государе и империи. Подобного права у него не было, и он его не признавал. Между тем право рыцаря на отъезд от одного государя (сюзерена) к другому для Средних Веков было само собой разумеющимся. Рыцарь устанавливал с государем личную связь на определенных условиях. Он мог ее расторгать, не нарушая верности. Рыцари и государи сходились и расходились как бы поверх государств и государственной жизни. Такое было возможно потому, что король, к примеру, Франции, был королем французов и прежде всего французского рыцарства. Последнее же становилось таковым не изначально, не от природы, а от свободы принятия вассальной присяги. При определенных условиях присяга была обратима и отменима. Совсем иная ситуация складывается в отношениях дворянина и государства. Присяга Маннергейма — дело не только его и императора. Император существует ‘не сам по себе, он тоже служит, но уже не лицу, а государству и стране. Пока сохраняется государство, присягающий государю дворянин обязан сохранять связь с государством. Для него государь — в какой-то мере посредник в служении государству и стране. Оба они: и дворянин, и монарх — служат, только у одного служение-подчиненность, а у другого — служение-властвование. Впрочем, разница между служениями не абсолютна. Так как государь обязан править государством, дворянин — помогать ему в этом. И для государя, и для дворянина государство остается реальностью, стоящей над ними. Скажем, в Российской империи XIX века этот момент особо подчеркивается тем, что государь носил ту же военную форму, что и дворяне, имел те же воинские звания, что и они. Причем последние российские императоры демонстративно предпочитали ту же военную форму, воинские звания и ордена, которые у них были в то время, когда они оставались наследниками престола и подданными своих царственных родителей. Этим подчеркивалось то, что и взойдя на престол, государь продолжает служить своей стране и государству, как прежде.

И 3»«. № 1059

|
затем вступать в связи с ним. Для дворянина служение государству в качестве чего-то пер. вичного немыслимо. Он может сколь угодно блестяще проявить себя на государственном поприще» но настоящих государственных добродетелей у него не будет. Они были у рцмляни- на не только потому, что государство для него было судьбой и служение ему становилось героическим принятием судьбы. Новоевропейское государство десакрализовано, тем более далеко ему до судьбы, первичность героического самоопределения и самоутверждения через него была бы странной и противоречивой. Дворянину в той мере, в какой он продолжал героическую традицию, действительно не оставалось ничего другого, кроме самоутверждения в служении самому себе.
С целью анализа дворянского самоутверждения и служения в самом его существе обратимся к источнику, достаточно неожиданному и по видимости не совсем уместному. К одному из самых известных и, кстати говоря, удачных романов А. Дюма «Шевалье д*Арман- таль». В этом романе нас будет интересовать одна сцена: дуэль между шевалье д'Арманталем и маркизом де Лафаром. Действие происходит в начале XVIII века, в эпоху Регентства, когда на дуэлях еще принято было драться не только лицам, сводившим между собой счеты, но и секундантам. Так что в дуэли участвуют шесть человек. Со стороны д’Арманталя — это барон де Валеф и некий бравый капитан, до тех пор не знакомый ни д’Арманталю, ни де Валефу и приглашенный в секунданты только виду безотлагательной срочности дела. Секунданты де Лафара подобраны более тщательно. Граф де Фаржи и шевалье де Раван без всякого сомнения могут быть отнесены к золотой дворянской придворной молодежи. Свой роман А. Дюма создал в середине XIX века, почти через полтора столетия после описанных в нем событий. Менее всего он вправе претендовать на документальную точность. Ну, а так называемый дух эпохи? Дюма, как я это понимаю, обладал блестящей способностью к имитации этого духа. Конечно, такая его способность имеет свои пределы. Более других ему удаются стилизации на материале многочисленных мемуаров XVII — XVIII веков, в них он вживается, и в его романах начинает веять тот самый дух эпохи. Не чужда ему и интересующая нас сцена дуэли. Нужно только учитывать, что в ней все чрезмерно, она откровенно пересахарена. Ну что же, в чем-то это даже удобно для анализа существа дворянского героизма.
Дуэль между д’Арманталем и де Лафаром возникла из-за сущего пустяка. д’Арманталь счел, что де Лафар недостаточно уважительно отозвался о женщине, с которой у него была мимолетная интрижка. И «оскорбленный», и «обидчик» прекрасно сознают ничтожество повода к дуэли. Для них это действительно ничтожный повод, за которым к тому же не стоит никакой причины. Казалось бы, тут и примириться или свести беспричинную дуэль к пустой формальности. Не тут-то было. Противники дерутся всерьез, с полной выкладкой, а с ними еще четверо секундантов, у которых вообще нет даже намека на взаимные претензии. С точки зрения простого и ясного смысла дуэль бессмысленна. Таковой она будет н под знаком любого другого смысла, если иметь в виду ее внешние, ситуативные обстоятельства. Но в том-то и дело, что именно подобная, по причине ее внешних обстоятельств бессмысленная, дуэль нужна д'Арманталю, де Лафару и их секундантам. Обратим внимание, они не имели друг к другу решительно никаких претензий, их отношения перед поединком и после него дружески-предупреди^ёльные и деликатные. Вот как описывает встречу дуэлянтов накануне поединка А. Дюма: «Как только де Лафар, де Фаржи и де Раван увидели своих противников, показавшихся на повороте аллеи, они направились им навстречу. Когда расстояние между ними сократилось до десяти шагов, те и другие сняли шляпы и, раскланявшись с изысканной учтивостью ... сделали еще несколько шагов с непокрытой головой, так любезно улыбаясь, что в глазах прохожего, не осведомленного о причинах свидания, они сошли бы за друзей, обрадованных встречей.»[113] В определенном и существенном смысле все участники

|
дуэли, за исключением, может быть, одного случайного, и есть друзья, чья встреча доставляет им радость. Дуэлянтам нечего делить между собой, кому-то мстить, восстанавливать попранную справедливость и тому подобное. Каждый из них не просто безупречно вежлив и предупредителен, он предполагает в другом безупречного человека. Говорят, что короля играет свита. В нашем случае каждый из участников дуэли «играет* в человеческое совершенство без изъятия, подразумеваемое им в себе самом и всех других, сторонниках или противниках — неважно. Ничего в этой взаимной «идеализации» не меняют даже печальные и кровавые итоги дуэли. Несмотря на то, что «у Фаржи и Валефа получился двойной удар: у одного было проколото ребро, у другого — рука. Оба приносили взаимные извинения и заверяли друг друга, что случившееся лишь упрочит их дружбу*.15Что же касается до опасно раненного д'Арманталем де Лафара, то его дружеская предупредительность и деликатность прямо-таки вырастает до любви к противнику. Стоя одной ногой в гробу, он не преминул дать д’Арманталю такой совет: «...покажитесь сегодня вечером на балу в Опере и, если у вас спросят обо мне, скажите, что мы не виделись уже неделю. Что до меня, то вы можете быть совершенно спокойны: я не назову вашего имени. Впрочем, если у вас будут неприятности с властями поскорее дайте мне знать, и мы устроим так, чтобы это дело не имело последствий».16
Дата добавления: 2016-02-04; просмотров: 514;
