Соединенные Штаты Америки – цивилизация двуликого Януса 11 страница
Успех в Америке в те годы зачастую буквально валялся на улице. Достаточно было, скажем, У. Уитмену (1819–1892) опубликовать небольшую книжицу в 95 страниц, как он стал известен. Что так потрясло в ней американцев? Поэтический дар уж далеко не молодого писателя? Вряд ли. Как известно, до этого он без особого успеха был типографским рабочим, занимался редактированием, читал лекции, помогал отцу строить и продавать дома. Да и первая его книга «Франклин Эванз, или Пьяница» не столько призвана была служить делу спасения молодых людей «от демона невоздержанности», сколь ставила вполне прагматическую цель заполучить в виде гонорара пару сотен долларов (в ней заметно влияние Диккенса). Думаю, американцам импонировал сам дух книги, автор которой восклицал: «Я славлю себя и воспеваю себя» (1855). Ведь с тех пор Америка только тем и занимается, что делает себе рекламу везде, где только можно. После появления «Листьев травы» Уолта Уитмена торжествующий Эмерсон будет рассылать их друзьям с припиской: «Американцы, находящиеся за границей, могут возвращаться: среди нас появилась личность». Но первое издание книги Уитмена тут же уценили, да и второе, прямо скажем, не принесло автору ни большой славы, ни богатства.
Уолт Уитмен – самый американский из всех поэтов США. В нем нашли воплощение характерные черты янки. Прежде всего это их личностные и индивидуальные начала. Американцы поклоняются (кроме денег – этой главной священной коровы Соединенных Штатов) Личности и Будущему. Уитмен в своих «Листьях травы», обращаясь к европейскому историку, бросает ему перчатку вызова, как перед рыцарским турниром. Чего это вы все воспеваете минувшее, всякие там расы и земли! Что интересного обнаружили вы во властителях и жрецах! Я же воспою человека, Личность! Перед нами «певец Личности», что надеется обрисовать контуры Будущего. Он заявляет: «Я проектирую историю будущего». И с присущей янки «наивной скромностью» пишет «Песнь о себе». Песня стала личностно-индивидульным гимном едва ли не всей американской нации с тех пор. Пожалуй, согласимся с Гачевым, назвавшим книгу Уитмена своего рода «Новым Заветом по-американски». Он предлагает рассматривать «Песнь о себе» не в ряду произведений поэзии и литературы, а в ряду основополагающих религиозно-поэтических текстов народа, подобно «Теогонии» Гесиода, «Илиады» Гомера или «Бхагавадгита» индуизма и т. д. С этим можно бы даже и согласиться, если бы не одно существенное «но» – тотальное отсутствие духовной Личности в США.[307]
Не в те колокола звонил Уолт Уитмен… Его или не услышали, а если и услышали, то не поняли глубины пафоса художника. О чем думал и мечтал Уолт? О том, что американцы сумеют все же заполнить тот существенный культурный пробел, что некогда смущал их, хотя и был неизбежен. Он пишет: «Почти все страны, большие и малые, рано или поздно, в какое-нибудь время от глубокой древности до наших дней, создали, каждая по-своему, хотя бы одну великую бессмертную песню, в которой воплощены и возвеличены доблесть, мудрость, красота человека, как их понимали в данной стране в ту или иную эпоху. Величественный эпос Индии, Библия, Гомер, «Нибелунги», «Поэма о Сиде», Дантов «Ад», Шекспировы драмы о человеческих страстях и феодальном обществе, песни Бернса, поэзия Гте в Германии, Теннисона в Англии, Виктора Гюго во Франции и многое другое – все эти разнообразные, но бесспорные вехи (в известном смысле самое высокое, что создали человеческий ум и сердце, выше науки, техники, политических преобразований и т. д.), которые лучше, правдивее всего повествуют о долгих путях истории, отмечают этапы, каких достигало человечество, идеи, какие оно исповедовало при различных сменявших одна другую цивилизациях… Где вклад Америки в собрание этих бессмертных памятников – вклад, достойный ее самой и современности? До сих пор наше демократическое общество (если рассматривать все его слои как одно целое) не имеет ничего (даже своей, самобытной музыки, этой крепчайшей национальной связи) похожего на ту могучую, живую, религиозную, общественную, эмоциональную, художественную, неопределимую, неописуемо прекрасную силу, которая сплавляла воедино отдельные части феодального общества в Европе и Азии, чудодейственно переплетая основу чувства ответственности, долга и счастья».[308]
По мере взросления янки вкусы сей публики нисколько не становились более изысканными и тонкими. Эмерсон не смог отыскать даже крупицы поэзии среди деловитости Нью-Иор-ка, Сан-Франциско и Чикаго. Радости американцев все чаще ограничивались погоней за деньгами, пьянством и политикой. «Отец американской словесности» В. Ирвинг, как и герой одной из его новелл, словно пробудившись от сна, бежал из Америки в Европу и оставался там целых 17 лет. Блистательный писатель Р. Эмерсон, воспевший «души высокое стремленье», предпочел уединиться от сует Америки в Конкорде, отдавшись мыслям о европейской культуре. А те, кто побывал в американской республике на рубеже XVIII и XIX вв., порой отзывались крайне нелестно об уме и способностях ее обитателей… В частности, Шатобриан так сказал о нравах и культурном уровне янки: «Однако не следует искать в Соединенных Штатах того, что отличает человека от других тварей, того, что сообщает ему бессмертие и украшает его жизнь: вопреки стараниям множества преподавателей, трудящихся в бесчисленных учебных заведениях, словесность новой республике неведома. Американцы заменили умственную деятельность практической; не вменяйте им в вину их равнодушие к искусствам: не до того им было… Американцы не прошли через все те ступени развития, через которые прошли другие народы; их детство и юность остались в Европе… На новом континенте нет ни классической, ни романтической литературы, нет и литературы индейской: для классической литературы американцам недостает образцов, для романтической – средневековья, что же до литературы индейской, то американцы презирают дикарей и ненавидят леса, как тюрьму, которую чудом избежали. Таким образом, в Америке нет литературы как таковой, литературы в собственном смысле слова; там имеется литература прикладная, служащая различным нуждам общества: это литература для рабочих, торговцев, моряков, земледельцев. Американцам даются только механика да точные науки, потому что у точных наук есть материальная сторона: Франклин и Фултон заставили молнию и пар служить людям. Честь открытия, без которого впредь не сможет обойтись в своих морских экспедициях ни один континент, принадлежит Америке».[309]
Стоит напомнить читателям метаморфозу некоторых известных писателей Америки. Фенимора Купера (1789–1851) называли великим писателем, ставя в один ряд с Гомером и Сервантесом. Его юношеские годы прошли довольно бурно. В годы обучения в Йельском университете Купер, по воспоминаниям педагогов, «был довольно своенравен, терпеть не мог серьезного ученья, особенно отвлеченных наук, и без памяти любил читать романы и забавные повести». Кульминацией его научной карьеры стало то, что он, будучи студентом, с помощью пороха взорвал в университете дверь, после чего его исключили. Славу писателя ему удалось обрести не в США, а за их пределами. Вначале он был убежден, что Америка «стала образцом для мудрых и добрых людей в любом краю». Вскоре он понял, что страна эта «не для поэтов» и резко осудил жесточайший конфликт «между людьми и долларами». В одном из писем художник с горечью вынужден признать: «Бесспорно одно – я разошелся с моей страною, – пропасть между нами огромна…» Вскоре Купер вышел на свою первую тропу войны. В знаменитой пенталогии о приключениях охотника Натаниэля Бампо, по прозвищу Зверобой, или Кожаный Чулок, и могиканина Чингачгука, называемого Великим Змеем, он показывал жизнь колонистов и индейцев в Америке XVIII века (в 1823 г. вышли в свет его «Пионеры»). В то время четырех жизней средней продолжительности было достаточно, чтобы передать из уст в уста в виде преданий все, что цивилизованный человек совершил в пределах американской республики. В романах с симпатией описаны простые люди, охотники, рыболовы, пионеры. Среди тех и других встречались разные люди, ощущается, что он на стороне индейцев, а не на стороне белых колонизаторов. С уважением говорит об обитателях лесов и прерий. Белых же Купер характеризовал так: «Предпринимая свой второй набег на индейский лагерь, Хаттер и Непоседа руководствовались теми же самыми побуждениями, которые внушили им в первую попытку; к ним лишь отчасти примешивалась жажда мести. В этих грубых людях, столь равнодушных к правам и интересам краснокожих, говорило единственное чувство – жажда наживы».[310] В его романах предстала страна, стремящаяся к богатству, знаниям, смело овладевавшая природными богатствами континента. Купер писал: «Повсюду виднеются дороги: они тянутся по открытым долинам и петляют по запутанному лабиринту обрывов и седловин. Взгляд путника, впервые попавшего в эти места, через каждые несколько миль замечает «академию» или какое-либо другое учебное заведение; а всевозможные церкви и молельни свидетельствуют об истинном благочестии здешних жителей и о строго соблюдаемой здесь свободе совести. Короче говоря, все вокруг показывает, чего можно достичь даже в диком краю с суровым климатом, если законы там разумны, а каждый человек заботится о пользе всей общины, ибо сознает себя ее частью. И каждый дом здесь – уже не временная лачуга пионера, а прочное жилище фермера, знающего, что его прах будет покоиться в земле, которую рыхлил его плуг; или жилище его сына, который здесь родился и даже не помышляет о том, чтобы расстаться с местом, где находится могила его отца. А ведь всего сорок лет назад тут шумели девственные леса».[311]

Джеймс Фенимор Купер
Америка была страной строителей, не культуртреггеров. Как известно, до 80-х гг. XIX века ни один из писателей США не смог заработать себе на жизнь литературным трудом. Для многих известных писателей и художников Америка стала не лучшим местом. Для Э. По (1808–1849) США стали громадной тюрьмой, по которой он отчаянно метался, словно затравленный зверь. Впрочем, трагическим фактом его биографии стала потеря родителей в младенчестве (Эдгару не было и трех лет). Его приемный отец Дж. Аллан был табачным торговцем и мало что понимал в воспитании, балуя пасынка, не очень принуждая к учебе. После школы тот поступил учиться в один из старейших университетов США – Виргинский, или, как его тогда называли, Оксфорд Нового Света. Виргинскому университету повезло на знаменитостей. По проучился тут целый семестр. Учился он легко, вознамерившись стать военным. Массу времени проводил в библиотеке. Домой пишет о грубых и необузданных нравах, царивших тогда в университете. Обыденным явлением были драки. На это никто не обращал внимания. Зато объявление экзаменов вызвало у студентов переполох. О нем говорили так: «Дома в Америке он закончил школу и поступил в Виргинский университет, где проучился только один семестр, но вовсе не потому, что его исключили, как принято думать. И репутацию пьяницы и игрока ему вряд ли придумали бы, если бы он не стал знаменитым писателем. Всего четырьмя годами раньше в Боуденском колледже был оштрафован на пятьдесят центов за игру Готорн. К счастью, из этого случая не раздули для Готорна дурной славы. По же, несомненно, играл на большие суммы чаще, чем его собрат по перу, да и пил больше. Что ж, с тех пор миновали поколения студентов, более злостных игроков и пьяниц, не обладавших в свое оправдание гениальностью. Просто По, на свою беду, был на редкость подвержен действию алкоголя и к тому же имел обыкновение пить залпом. А это очень несчастливое совпадение. Привычка пить залпом до сих пор распространена в Америке и породила два исторических явления: горького американского пьяницу и 18-ю поправку к Конституции – сухой закон».[312] Но разве у нас на Руси мало писателей, деятелей искусств, да кого угодно, ставших жертвой «зеленого змия»?
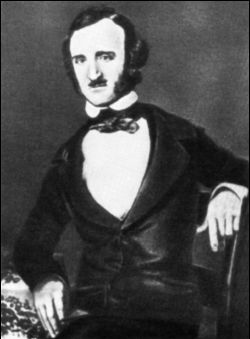
Эдгар По в молодости
Трудности и неувязки той поры можно было бы пережить, если бы не скаредность опекуна Эдгара – Дж. Аллена. Миллионер (его состояние оценивалось тогда в 750 тысяч долларов), он присылал пасынку гроши, включая доллар «на карманные расходы». Стоимость пребывания в университете равнялась 350 долларам в год. Жадность опекуна привела к трагическим результатам: Эдгар вынужден был залезть в кредит, стал поигрывать в карты и выпивать. Рассвирепевший Аллен, заплатив часть долгов, без лишних слов отлучил его от университета.[313] Затем его уволили из Военной академии Вест-Пойнт (1831). Впрочем, это не помешало литературной славе Э. По. Из знаменитых рассказов По («Убийство на улице Морг», «Золотой жук» и др.) вышла едва ли не вся мировая детективная литература… Чем же была вызвана эта личная трагедия? Поэт и переводчик Бальмонт так объяснил ее: чем острей, идеальней, воздушней талант, чем он своеобразнее, тем страшнее и неотвратимее осложнения. В особенности часто это случалось в Америке, где «общество состояло, да и теперь состоит главным образом из искателей доллара и учредителей деловых предприятий, и где умственная грубость и художественная тупость – господствующий факт».[314] Эдгар По – удивительный, таинственный, пророческий художник… В одном из рассказов («Человек толпы») он описал загадочного старика, лицо которого напомнило ему Дьявола. Поэт-символист К. Бальмонт, тонко чувствующий игру символов, писал о нем так: «Смотря на лицо Эдгара По и читая его произведения, получаешь представление о громадной умственной силе, о крайней осторожности в выборе художественных эффектов, об утонченной скупости в пользовании словами, указывающей на великую любовь к слову, о ненасытимой алчности души, о мудром хладнокровии избранника, дерзающего на то, перед чем отступают другие, о торжестве законченного художника, о безумной веселости безысходного ужаса, являющегося неизбежностью для такой души, о напряженном и бесконечном отчаянии».[315] Враги и недоброжелатели приклеили ему прозвище «планета без орбиты».
С интересом читал рассказы Э. По и художник Делакруа, находя в его необычайных или сверхчеловеческих концепциях некую фантастическую привлекательность, свойственную, по его, да и общему мнению, северным или каким-то там иным натурам, но совершенно чуждую французской природе. «Эти люди, – пишет он, – нравятся другу другу только тем, что в них есть сверхъестественного или неестественного. Мы ж, французы, не умеем до такой степени терять равновесие, разум должен быть на страже всех наших блужданий. Лишь в крайнем случае я допускаю такого рода распущенную манеру, но у него все рассказы написаны в том же духе. Уверен, что нет ни одного немца, который бы среди всего этого не чувствовал себя как дома»[316] Вдумываясь в смысл его странных образов, понимаешь, что он, возможно, более чем кто-либо обладал уникальной способностью – увидеть истинный лик Америки. Ее демонический символ предстает перед нами то в образе могучей Науки, этого «дитя Седых Времен», то в образе Убийцы с улицы Морг, то в образе Вечного Жида, спешащего по улицам нью-йоркских кварталов, то в облике Красной смерти, поражающей пирующих «в забрызганных кровью» залах, то в образе дома Ашеров, что вот-вот рухнет при блеске молний и кроваво-красном свете луны от страшной трещины, что роковым зигзагом уже пересекла фасад американской цивилизации.
В числе духовных учителей человечества я назову Джека Лондона (1876–1916). Выходец из рабочей среды, сам он скажет о себе, что с 8 лет «прилежно работал», а в 15 лет «был уже взрослым». Он обошел всю Америку, от Калифорнии до Бостона, вернувшись к побережью Тихого океана через Канаду. И куда только судьба не забрасывала писателя: был матросом, грузчиком, золотоискателем, контрабандистом, бродягой. Очутился однажды даже «на дне, в бездне, на свалке цивилизации». Такова полная испытаний и приключений жизнь этой Rara avis («редкой птицы») американской литературы.[317]
Художник, Великий Мечтатель, Правдолюбец, Романтик… Он, подобно Мессии, пришел в американскую литературу, дабы очистить ее от «бесхребетных слюнтяев» и литературных «евнухов». Ранее у нас много писали о социалистическом облике писателя. Действительно, в его творчестве отчетливо слышны социальные нотки… Но, как Лондон однажды заметил, он «стал социалистом примерно таким же путем, каким язычники-тевтоны стали христианами, – социализм в меня вколотили». Согласитесь, как бы вы ни относились к данной идее, в любом случае это не лучший способ воспитывать в душах твердые идеологические убеждения. Мы видим в нем великого художника (а вовсе не «пролетария», как утверждал Горький). Но мне в тысячу раз ближе и роднее труженик, чем скоты, гордо именующие себя демократическими писаками. Равнодушные к горестям людским, такие литераторы (а такие есть в России) хуже трупных червей… Но Лондона никак не назовешь равнодушным. В рассказе «Отступник» им нарисован образ мальчугана из бедных, что родился прямо в ткацком цеху. Он с детства прикован к безжалостной машине, как раб. Школа для него недостижима. Вымотанный системой, вынуждающей его совершать 25 миллионов движений в год, он даже ходит «не как человек и не был похож на человека».[318] И таких юношей немало в США.
В автобиографичном романе «Мартин Иден» описан и культурный багаж Лондона. Среди книг, прочитанных героем – Платон, Мор, Суинберн, Браунинг, Юм, Локк, Беркли, Рикардо, Смит, Дж. Милль, Вагнер, Спенсер, Джефферсон, Линкольн, Китс, Ницше, Блаватская и другие. К культуре так называемого образованного общества герой отнесся явно негативно. Лондон обвиняет их в невежестве. Где эти напыщенные индюки подрастеряли свои знания?! Ведь было время, они чему-то учились, читали хорошие книги. Почему же те их так ничему и не научили? Что за образование получили они в хваленых университетах! «Раньше он по глупости воображал, что каждый хорошо одетый человек, не принадлежавший к рабочему сословию, обладает тонким умом и чувством прекрасного. Крахмальный воротничок казался ему признаком культуры, и он не знал, что университетский диплом и истинное образование далеко не одно и то же».[319]
Когда Джек Лондон умер, на его могилу возложили громадный красный камень (сам он некогда называл его «Камень, который не пригодился рабочим»). Мы всегда будем ценить его талант. Некогда Горький сказал о нем так: «Джек Лондон пробил огромную брешь в литературной плотине, которая окружала Америку с тех пор, как средний класс, состоящий из промышленников и лавочников, пришел к власти». Нам тоже хотелось бы пробить брешь в коре равнодушия новых капиталистов России, безмозглого стада, которое говорит нам сегодня примерно то же, что некогда с горькой иронией говорил герой романа Дж. Лондона Мартин Иден: «Кто ты такой, Мартин Иден?.. Кто ты и что ты? Где твое место?.. Твое место среди миллионов людей труда – там, где все вульгарно, грубо и некрасиво. Твое место в хлеву, на конюшне, среди грязи и навоза… А ты смеешь совать нос в книги, слушать красивую музыку, любоваться прекрасными картинами, заботиться о своем языке». Эти вопросы все чаще себе задают в современной России те молодые люди, которые вчера еще могли свободно пользоваться всеми благами науки, культуры и образования.
Потомок викингов, дитя людской пустыни,
Гомер Аляски, вольный сын морей,
С тобой я коротаю бег ночей,
Ты занял место Бога и латыни.[320]

Джек Лондон-золотоискатель
Впрочем, писательская жизнь нигде не была похожа на райские кущи (а в США особенно). Это справедливо даже в отношении таких ярких писателей, как Марк Твен (1835–1910), чей поразительный талант заставил Хемингуэя сказать, что вся современная литература США вышла из «Гекльберри Финна». Родился Сэмюэл Клеменс (Твен) в семье захолустного юриста и лавочника. О предках его известно крайне мало. Поздние попытки самого Марк Твена обнаружить некоего Клеменса среди тех, кто якобы выносил приговор Карлу I в Англии XVII в., видимо, свидетельствуют о его республиканских убеждениях… Среди дедов и прадедов будущего писателя были плантаторы, ремесленники, лавочники, фермеры. Жизнь семьи протекала в городишке Ганнибал (штат Миссури). Здесь он увидел многое из того, что позже вошло в его замечательные книги. В школе учился так себе (ни шатко ни валко). Зубрил правила грамматики. С тоской слушал унылое подвывание учителей. Скрашивал время, гоняя вошь по грифельной доске. Тоже веселенькое дело. Но это не помешало ему стать чемпионом по диктанту. До 14 лет он посещал школу крайне нерегулярно, совмещая учебу с работой в типографии (как он позже вспоминал, за одежду, стол и ни гроша наличными). Его духовной пищей стали Сервантес, Свифт, Голдсмит, Диккенс. Юноша рано начал печататься, но прежде чем избрать тернистую стезю репортера и писателя, он учился на лоцмана, одно время работал старателем. Затем Твен опубликовал книгу «Простаки за границей» (1869), в которой высмеял более чем скромные познания жителей Нового Света (янки) в области европейской культуры и искусства. В ней описано, как вандалы (американцы) были поражены, впервые услышав имя Колумба, а в каждом встретившемся им в Европе памятнике непременно видели «работу Микеланджело».[321]
Книги «Том Сойер» и «Гекльберри Финн» стали для миллионов детей учебниками жизни. Читая их, погружаешься в радостное и шаловливое детство восторженно, словно в чистую и глубокую заводь. Многие наверняка отнесут эти книги (возможно, еще и «Принц и нищий», «Янки при дворе короля Артура») к любимому чтиву. Но не менее интересен зрелый Твен, которого называли «Линкольном литературы, самой сущностью американизма». Любопытно взглянуть на эволюцию взглядов писателя… Почему Твен, человек романтический и мягкий, в начале карьеры говоривший языком любви и простодушного юмора, позже стал желчным и саркастичным?! Вначале он идеалистически и в розовых тонах воспринимал американцев, говоря: «бесстрашные молодцы, волевые и настойчивые», «само простодушие, отзывчивость и бескорыстие», «цвет человечества, избранники богов», «удивительный и прекрасный народ». Однако вскоре его охватило чувство горечи и разочарования. Сыграли роль и личные трагедии (смерть дочерей, жены, банкротство основанного им издательства). И на многое открылись глаза. Словно лопнул злокачественный «демократический» нарыв. Он клеймит жесткость окружающего мира, показывает коррумпированность чиновников и подлость политиков. С гневом пишет он о «сонной американской нации», бичует «одетых в мундир убийц», расправляющихся с беззащитными женщинами и детьми Филиппин. Достается и губернаторам, понастроившим таких шикарных и дорогостоящих особняков, что и в столице не сыщешь. Подобно отважному Ланселоту, он смело шел в бой против тех, кого называл «зверинцем» (взяточники, мошенники, бандиты, политиканы). Стыдно за свой народ, писал он с возмущением, когда видишь: «Какие мыльные пузыри постоянно восседали на его тронах». Историк Хилдрет в «Истории Соединенных Штатов Америки» (1849) сделал попытку развенчать «мыльные пузыри золотого века сказочных достоинств и чистоты». Но и отповедь Марк Твена «патриотам собственного кармана» звучит актуально: «Эта жажда денег привела к загниванию целых наций, она сделала их жестокими, убогими, бездушными, бесчестными, превратила их в угнетателей».[322]
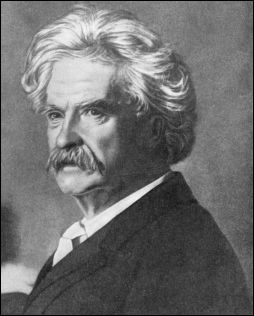
Марк Твен в 1896 году
Капитал везде убивает подлинную литературу. Вспомним знаменитые слова К. Маркса: чем «больше становится твое сокровище, не подтачиваемое ни молью ни червем, – твой капитал», чем «больше твое имущество», тем меньше ты «покупаешь книг, тем реже ходишь в театр, тем меньше ты думаешь, любишь, теоретизируешь, поешь, рисуешь», тем «ничтожнее твое бытие…».[323] Если только не доводить этого высказывания до полного абсурда, то оно абсолютно верно. Чем больше у людей денег, тем ниже их культура и тем страшнее жертва, приносимая ими же Молоху. Чем больше у человека денег, тем меньше у него совести. В отношении таких людей справедлива и английская пословица – «You cannot get blood from a stone» (англ. «Ни капли жалости»).
Даже в столь почтенной сфере, как научная и университетская деятельность, обнаружились безрадостные тенденции. Подумать только, сколь нелепыми и наивными кажутся сегодня старые добрые времена, когда получение почетного диплома доктора университета было величайшей редкостью. Для этого нужно было свершить в науке нечто выдающееся. Сегодня же степени продают, словно дыни на восточном базаре. Бери за небольшую мзду! В рассказе «Ученые степени» (1907) Твен саркастически описал, как его пригласили в Оксфорд на вручение ученой степени: «Новая ученая степень доставляет мне каждый раз такое же наслаждение, как индейцу свежесодранный скальп». Две степени он получил от Иельского университета, третью от университета в Миссури. За истекшие 40 лет университеты США, писал он, разбазарили так до десяти тысяч почетных дипломов. Этот процесс поставлен на деловой поток, что говорит о желании делать деньги, о серьезнейшей профанации всей науки, а заодно и системы высшего образования.[324]
Поскольку янки пришли на пир мудрецов позже других, они не могли не попытаться добиться успехов и в области философии и культуры. С этой целью многие американцы учатся упорно и кропотливо. Уитмен впитал не только идеи Эмерсона, но Гегеля, Канта, Шиллера. Прагматизм ощущался и тут. В США и философы стремились делать из идей деньги. Правда, оказалось, что создавать высокую культуру мысли и духа куда сложнее, чем смастерить кольт. Не случайно Т. Драйзер однажды скажет (в очерке «О некоторых чертах американского национального характера»): «Корень зла в том, что в Америке никогда не было, да и по сей день нет того, что можно было бы назвать истинным просвещением и культурой. У нас нет никакой разумной, видимой миру цели, если не считать таковой стремление к наживе».[325] Нельзя сказать, что попытки обрести высшие цели не делались тут вовсе. Но сравняться с корифеями мировой мысли, культуры было непросто.
Неужели же тут не было ярких имен? Хотя мысль никогда не была в Америке главным козырем, но серьезные мыслители в США все же встречались Среди них выделим шестерых – американские философы Р. У. Эмерсон (1803–1882), Г. Торо (1817–1862), Ч. Пирс (1839–1914), У. Джемс (1842–1910), Дж. Дьюи (1859–1952), Дж. Санатаяна (1863–1952). Первого в Америке называют «конкордским мудрецом» и «предметом особой национальной гордости», второго (Торо) – трансценден-талистом и «первым хиппи», третьего (Пирса) – одним из «признанных вождей американской философии», четвертого (Джемса) основателем американского прагматизма, пятого (Дьюи) относят к видным представителям инструментализма, и, наконец, шестого (Сантаяна) можно было бы назвать видным мастером критического реализма.
Ральф Эмерсон родился в семье пастора. Закончил Гарвардский университет. Там же читал лекции по богословию, принял, а затем и сложил с себя сан священника. Дальнейшую жизнь он посвятил литературно-философской деятельности. Эмерсон путешествовал по Европе, дружил с Т. Карлейлем, С. Колриджем, У. Вордсвортом, Г. Торо. С 1834 г. обосновался в Конкорде, где занялся творчеством, выступая с лекциями перед аудиторией. Часть их опубликована в виде эссе («Американский ученый», «Философия истории», «Культура человечества», «Речь перед выпускным классом школы богословия», «Избранники человечества», «Наша эпоха», «Жизнь человеческая»). Наиболее яркими считают последние три. Литературно-лекционное наследие писателя объединено в двух томах «Опытов» (1841–1846). Труд назовут самой феноменальной симфонией Нового Света. Чем он замечателен? Необычайно поэтическим видением мира. Пожалуй, никто из современников не умел столь мастерски соединять философию с литературой. Разве что немец Ницше или англичанин Карлейль. Эмерсон – американский Сократ, который умел вести беседы не только с высоколобыми интеллектуалами, но и с простонародьем. С ним он беседовал о высоком и прекрасном на языке, исполненном огненной силы (Р. Ричардсон). Натура Эмерсона позволяла ему видеть мир глазами ближних. Писательница В. Вулф говорила, что его «нельзя проигнорировать, ибо он обладал вселенной внутри себя». Это был философ от Бога. Он писал для людей, а не для систем и элит. По этой причине его преследовала скрытая неприязнь «профессиональных мудрецов». Тогда же всходили звезды просветителя У. Чаннинга, романиста Н. Готорна, философа и натуралиста Г. Торо, публициста М. Фуллер, педагога Э. Олкотта, философа О. Брунсона, У. Уитмена. На таком ярком фоне не кого-то, а именно Эмерсона в 33 года увенчали венцом патриарха, подобно тому как некогда римляне увенчали терновым венцом Христа. С 14 лет, с поступления в Гарвард, вся его жизнь – непрерывное движение вперед. На пути Эмерсона будут подстерегать как поражения, трагедии (смерть первой жены, сына, любимого брата, пожар дома), так и грандиозные триумфы, общенародное признание его заслуг.

Ральф Уолдо Эмерсон
Ныне его глубоко почитают в США. Причин тому несколько. Он дал американской интеллигенции то, чего ей всегда не хватало – свое Возрождение, мечту и утопию. Всем известно, что янки жили и живут на духовном импорте. Они тащат отовсюду идеи, моды, культуру. На то, чтобы вывезти из Европы, Азии, Америки все ценное (и как можно дешевле), у них хватает ума, энергии и, главное, денег. Чего же не хватает? Нормальной человеческой жизни. Разве назовешь истинной жизнью эту непрерывную гонку за прибылью, безжалостную битву за выживание. Деньги, власть, хитрость, коварство, кольт, афера – жить внутри такой обстановки нормально нельзя. Можно в лучшем случае лишь существовать. Эмерсон писал: «Мы обладаем гораздо большей добротой, чем об этом принято говорить. Вопреки всему эгоизму, леденящему мир подобно восточным ветрам, единая семья человечества купается в стихии любви как в тончайшем эфире… Я обращаюсь с упреками к обществу, я стремлюсь к уединению, и все же я не настолько неблагодарен, чтобы не видеть мудрых, обаятельных и благородных, которые время от времени входят в мои врата. Тот, кто внемлет мне, кто понимает меня, принадлежит мне, он – мой навсегда». Р. Эмерсон прочел в стенах «Лицея» около ста докладов (за полвека существования оного). Главную задачу жизни он видел в распространении знаний. Будучи почвенником, он не отрицал достижений техники, науки, экономики, хотя с тревогой наблюдал, как торговля «все выносит на рынок – талант, красоту, добродетель, самого человека». Но, приняв правила игры, он надеялся удержать бизнес в границах морали.
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 852;
