Европейские божества – симфония музыки, мысли и стали 13 страница
Швейцер едет работать врачом в Африку. Европейская культура обрела в нем одного из своих нравственных героев. Все эти александры македонские, наполеоны, сесили родсы, да и бисмарки думали о славе и богатствах, а не о судьбах тех, кто обитает на захваченных землях. «Какие блага ни дали бы мы жителям колоний, – писал Швейцер, – это будет не благодеяние, а искупительная плата за те ужасные страдания, которые мы, белые, приносили им, начиная с того дня, когда первый наш корабль проложил дорогу к этим берегам». Он стал, как пишет профессор О. Краус, силой, объединяющейнации и способствующей миру между ними, силой, постоянное и благотворное воздействие которой заключается в выполнении долга сохранения цивилизации. Нам понятно восхищенное резюме о нем писателя С. Цвейга: «Эта жизнь стоит того, чтобы стать когда-нибудь объектом героической биографии. Хотя не героической в старом, военном смысле, но в новом смысле морального героизма».[649]
Альберт Швейцер душой, быть может, «самый русский» из всех немецких мыслителей и деятелей культуры… Поэтому, вероятно, этот мыслитель ощущал свою духовную близость к Льву Толстому, которого сам Швейцер называл «великим вдохновителем» (кстати, к Толстому обращал свой взор и крупнейший немецкий ум XX века – М. Вебер).
В своей работе «Культура и этика» (1923) Швейцер писал о кризисе западной «ущербной культуры», которую на протяжении веков превозносили многие поколения просветителей. В чем главная его посылка? Что вызывало у него особую тревогу? Дело в том, что с середины XIX в. люди почти перестали черпать «свои идеалы культуры и гуманности в разуме, обратившись всецело к действительности и в результате оказавшись перед неизбежностью все большего сползания к состоянию, характеризующемуся отсутствием культуры и гуманности». Это очевидный и бесспорный факт, который можно констатировать на основе знакомства «со всей историей нашей культуры». В чем же дело? Почему происходит эта трагедия?
Между культурой и мировоззрением есть самые тесные связи. Культура в принципе держится «оптимистически-этическим мировоззрением». Пока оно сохраняется и упрочивается, живет и крепнет культура. С середины XIX в. данное мировоззрение, обещавшее народам столь щедрые плоды в будущем, претерпело кризис. Исчезла вера в идеи, правительства, социальные институты, науку, культуру, образование. Почему!? Ведь сделано немало. Успехи во всех областях науки, техники, промышленности очевидны. Все это так. Но какова плата за успехи? Люди-то фактически становятся рабами…

Альберт Швейцер.
Швейцер пишет: «В наиболее общем виде угроза культуре, таящаяся в материальных достижениях, состоит в том, что массы людей в результате коренного преобразования условий жизни из свободных превращаются в несвободных. Те, кто обрабатывал свою землю, становятся рабочими, обслуживающими машины на крупных предприятиях; ремесленники и люди делового мира превращаются в служащих. Все они утрачивают элементарную свободу человека, живущего в собственном доме и непосредственно связанного с кормилицей-землей. Кроме того, в новых условиях им больше не присуще живое, несокрушимое сознание ответственности людей, занимающихся самостоятельным трудом. Следовательно, условия их существования противоестественны. Теперь они ведут борьбу за существование, будучи лишены более или менее нормальных условий, когда каждый, идет ли речь о борьбе с природой или о конкуренции людей, может пробить себе дорогу благодаря своим способностям. Напротив, они считают, что необходимо объединиться и образовать таким образом силу, способную добиться лучших условий существования. В итоге складывается психология несвободных людей, в которой идеалы культуры уже не выступают в необходимой чистоте, а искажаются интересами борьбы». С каждым годом всем людям приходится вести «все более трудную борьбу за существование».[650]
В ходе борьбы между отдельными слоями, группами, классами растут непонимание и враждебность, ибо условия соперничества несправедливы. У одних, знатных и богатых, – почти все мыслимые и немыслимые блага, у других, бедных, – нет почти ничего. Он говорит о том, что власть правящей элиты стала громоздкой и бесконтрольной, чрезмерно раздут чиновничий аппарат государства, финансовые круги ведут себя эгоистично и дико. Что делать в этом случае, когда неизвестно, какие еще «кризисы и катастрофы предстоит пережить современному государству»? Каким образом все же разорвать этот страшный, порочный и заколдованный круг? Швейцер решает: нужно обратиться к человечеству, «минуя народы и государства».
Итог деятельности великого гуманиста подвел биограф: «О Швейцере обычно говорят, что он отказался от судьбы процветающего европейца, блестящей карьеры ученого, педагога, музыканта и посвятил себя лечению негров никому дотоле неведомого местечка Ламбарене. Но в том-то и дело, что он не отказался. Он состоялся и как выдающийся мыслитель, деятель культуры и как рыцарь милосердия. Самое поразительное в нем – сочетание того и другого. Дилемму цивилизации и милосердной любви к человеку он снял самым продуктивным образом. Предлагаемое им решение можно резюмировать словами: цивилизацию – на службу милосердной любви».[651]
В немецкой (и в мировой) культуре боролись и борются два начала: гуманное, жизнеутверждающее, светлое; другое – дикое, алчное, лицемерное, смертоносное. В конечном счете, должно победить и победит, как мы надеемся, первое и лучшее начало… Только давайте почаще вспоминать изречение Шиллера из пролога к «Лагерю Валленштейна» и свято следовать ему: «Тот, кто жил лучшими стремлениями своего времени, жил для всех времен».
При всем нашем уважении к немецкой культуре (в широком смысле слова) приходится признать, что она, как и любая другая культура, неизбежно плодила и плодит толпы маргиналов. Конечно, даже в таком рационализированном обществе, как немецкое, есть большой простор и для глупости. Ницше заметил однажды: «Немцы – их называли некогда народом мыслителей, – мыслят ли они еще нынче вообще?» Приносился ли в Германии «человек обучающийся» в жертву гражданину? Как во всяком другом государстве, такое случалось и тут довольно часто. А кроме того, казенно-филистерский дух в немецкой системе вытравить намного труднее. Энгельс писал о засилье «общегерманского убожества» в предисловии к «Анти-Дюрингу»: «Среди публики получили с тех пор широкое распространение, с одной стороны, приноровленные к духовному уровню филистера плоские размышления Шопенгауэра, впоследствии даже Гартмана, а с другой – вульгарный, в стиле странствующих проповедников материализм разных Фогтов и Бюхнеров. В университетах конкурировали между собой различные сорта эклектизма, у которых общим было только то, что они состряпаны из одних лишь отбросов старых философских систем и все одинаково метафизичны… Конечным результатом стали господствующие теперь разброд и путаница в области теоретического мышления».[652]
Вагнер не удержался от критики в адрес немецкой нации, заметив как-то, что немцы кажутся «тяжелыми и бессильными» в попытках отразить полноту жизни… При этом он высказал пожелание, которое может быть обращено ко всем, кто пишет или рассуждает о другом народе. «Я хотел бы, чтобы немцы показали французам не карикатуру французской цивилизации, а чистый тип истинно оригинальной и немецкой цивилизации».
Об этом же некогда говорил и немецкий канцлер фон Бюлов. С одной стороны, писал он, есть все основания считать, что германская нация, больше, чем какой-любо другой народ, «любит учиться и имеет возможность удовлетворить эту потребность». Это справедливо и для низших классов.
Среди привлекательных черт характера немцев это одно из симпатичнейших их достояний. Видя, как упорно учатся немцы, как умеют вгрызаться в суть научно-технических, культурных, экономических проблем, трудно с этим не согласиться. С другой стороны, при всех своих достоинствах они в массе своей односторонни и узки. Недостаток живости и воображения сужает их горизонт (при высоком развитии наук и технических навыков). Успехи же способны быстро вскружить голову немецкой нации. Та быстро забывает о поражениях и склонна считать себя всемогущей. В Германии всегда хватало тейфельсдреков («чертова дерьма») и приспособленцев. Это некоторый результат убогости, корысти и равнодушия общества в целом. Подобно Гонкурам, немец думал: «Видишь, что не стоит умирать ни за какое дело, нужно жить при любом правительстве, как бы антипатично оно для вас ни было, и верить только в искусство, исповедовать только литературу». Nil novi sub luna! (Ничто не ново под луной!). Единственное исключение, что он уже не верит ни в искусство, ни в литературу, ни в Бога!
Б. Бюлов (1849–1929), князь германский, рейхсканцлер и прусский президент, вспоминал давний разговор на эту тему с министром Альтгофом. Тот так говорил о немцах: «Чего же вы хотите? Мы, германцы, – самая ученая нация в мире и лучшие солдаты. Мы создали великие произведения в области наук и искусства. Величайшие философы, поэты и музыканты – германцы. В последнее время мы заняли первое место в развитии естественных наук и в области технических завоеваний, и в довершение всего мы колоссально двинулись вперед в области развития промышленности. Как же вы можете удивляться тому, что в политике мы являемся ослами? Должно же быть хоть одно слабое место». У немцев немало пробелов. Но убедить их в этом трудно. Немец постоянно вопрошает в духе катехизиса Лютера: «Wo steht das geschrieben?» (Где это написано?). Хотя тут, возможно, Шопенгауэр прав: «Всякая нация смеется над другой, и все они правы». Бюлов, впрочем, уверен, что судьба, которая, как известно, «является самым лучшим, но и самым дорогим учителем, примется за наше политическое воспитание при помощи тех обид и несправедливостей, к которым нас будет приводить наша врожденная политическая слабость». Ошибки редко излечиваются знанием – только личным опытом. Канцлер высказал в заключение надежду, что опыт будет для немцев «не очень тяжелым» (1910).[653]
Как показал XX век, канцлер серьезно заблуждался.
Немцам суждено не раз испить чашу собственного невежества и горького опыта. Кстати, о чаше… Как все европейцы, немцы с давних пор традиционно не обходили своим вниманием вино и развлечения. На средневековых карнавалах во Франции, Нидерландах, Италии, Англии, Германии, Австрии, Чехии кульминацией любой масленичной потехи были всевозможные пляски, сценки, действа и пиршества. Вино лилось рекой. Немцы и австрийцы не только умели крепко трудиться, но и знатно веселиться. Часто в процессиях изображали шутовских государей, опорожняющих кувшин за кувшином (Король пьет!). Любимая фигура процессий – толстяк-бюргер, символизирующий карнавал, восседающий на винной или пивной бочке. Вся дальнейшая история крепко повязала немцев со шнапсом… Не только пиво, но и водка стали бурно распространяться в Германии с XV в., когда власти того же Нюрнберга даже вынуждены были запретить в праздничные дни продажу спиртного (1496 г.). Все население, от солдат до государственных мужей Германии, любило и любит приложиться к бутылке.

Стакан для вина знатного немецкого дворянина.
Национальный напиток немцев – пиво, считавшееся напитком варваров и бедняков. Оно получило распространение в основном в обширной зоне северных стран. Жители южных винодельческих стран, пившие вина частенько насмехались над этим напитком. В Европе прослеживается закономерность: чем тяжелее экономическое положение народа, тем больше он налегал на пиво, и наоборот: чем благополучнее и сытнее живут люди, тем охотнее они пьют вина. Хотя, наряду с пивом за полгроша для простого народа, известно было с XVI в. добротное пиво из Лейпцига, ввозимое в Нидерланды. По всей Германии, Чехии и Польше тем не менее наблюдается бурный рост пивоварен, что свидетельствовало в пользу напитка для «северных стран».[654]
Говоря о средневековье, мы привели слова старинной немецкой песенки, приписывающей Мартину Лютеру поговорку: «Wein, Weib und Gesang» («Вино, женщины и песни как символ веселья и жизнерадостности»). Известный австрийский поэт, драматург и переводчик Р. Хамерлинг (1830–1889), воздавая дань Бахусу, писал в одном из своих стихотворений:
Все воспевают трезвость; я – пьянство восхвалю!
Исполнен дум высоких мечтатель во хмелю.
И лишь тогда герои достойны всех похвал,
Когда их змий зеленый на подвиги позвал.
Подъем душевный славлю; пускай исходит он
Из пенистой баклажки; пускай он пробужден
Настойкой и вдыхает, восторга не тая,
И вешний запах мяты, и трели соловья.
Весь мир измерит трезвость и вдоль и поперек,
А что она получит за долгий труд и срок?
Названия и цифры. Выходит, все равно
Ей завладеть вселенной с линейкой не дано.
Для бражника, что вечно горит в святом огне,
И небо и планеты купаются в вине,
Как жемчуга красотки. Вселенная прильнет
К его груди и лаской под звезды вознесет.[655]
Вот и старина Бисмарк любил поесть и выпить. Вот как описывали биографы его страсть. Он поглощал неимоверное количество пищи. В Книпгофе (резиденции) портер и шампанское не сходили со стола. Редкая неделя обходилась без попойки. Бисмарк даже шутил по этому поводу: «Не выпив и не покушав сытно, я не могу заключить хорошего мира». Бисмарка все же как-то еще можно оправдать. Что ни говори, он объединил, а не раздробил Германию.
Австрийский психиатр Р. Крафт-Эбинг писал: «Преданный пьянству человек обнаруживает более шаткие воззрения на честь, обычаи и приличие, равнодушно относится к нравственным столкновениям, к разорению своей семьи, к презрению со стороны своих сограждан; он становится жестоким эгоистом и циником». Впрочем, о немцах говорили так: «Как и древние германцы, они любят с жаром побеседовать во время пиров о своих делах, но сделки заключают только на трезвую голову». Немцы могли соперничать на этом поприще разве что с поляками и русскими, где пьянство «цезаря» часто воспринималось как общественная добродетель и даже чуть ли не как символ великого ума.
Беда эта пришла к нам как раз оттуда – из пределов «цивилизованной» заграницы. Знаток европейских нравов итальянец А. Гваньини в «Описании Московии» (1578) указывал на тех, кто насаждал и кому мы обязаны «питейными нравами»: «Наконец, за рекой отец нынешнего государя Василий (Василий III Иоаннович. – В.М.) выстроил для своих телохранителей и для разных иностранцев, а именно: поляков, германцев и литовцев (которые от природы привержены Вакху), город Наливки, получивший название от налитых бокалов. И там у всех иностранных солдат и пришельцев, а также у телохранителей государя имеется полная возможность всячески напиваться, что московитам запрещается под страхом тяжкого наказания, за исключением нескольких дней в году».[656]
Пагубная страсть к горячительным напиткам, судя по всему, и в XIX веке в первую очередь поражала наше «барство» и «верхи», привыкшие к трапезам, застольям да наливкам. Простой же человек тогда был занят трудами праведными… Во время известного путешествия А. Дюма по России (1858) тот записывал свои впечатления. Среди его заметок были и такие: «Чай – национальный напиток русских. Нет в России семьи, даже самой бедной, в которой не было бы самовара, то есть прибора для кипячения воды. Голландцы сами не свои до огурцов, а русские крестьяне – до горячей воды. Невозможно себе представить, что такое чаепитие русского мужика и сколько бутылок кипятку он высасывает с «парой сахару», то есть с двумя кусками, похожими на два маленьких боба, которые он и не думает класть в стакан, – заметьте, в России мужчины пьют чай из стаканов, а женщины из чашек».[657]
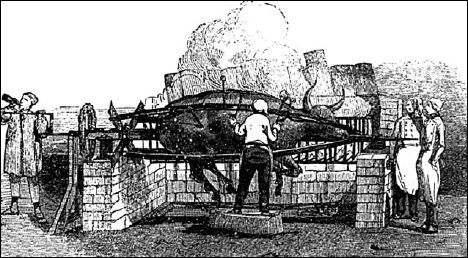
Немцы зажаривают быка. Гравюра XIII в.
Насколько важен и ценен немецко-австрийский опыт? Он помогает нам увидеть смысл в тех или иных мировых событиях. Гегель в «Философии истории» подметил эту черту немецкой истории: «У нас, немцев, проявляющаяся при этом рефлексия и рассудительность чрезвычайно разнообразны: каждый историк усвоил себе в этом отношении свою собственную манеру. Англичане и французы знают в общем, как следует писать историю: они более сообразуются с общим и национальным уровнем культуры; у нас же всякий стремится придумать что-нибудь особенное, и, вместо того чтобы писать историю, мы всегда стараемся определить, как следовало бы писать историю». Далее он говорит: «Конечно, всего лучше, если историки приближаются к историкам первого рода и пишут столь наглядно, что у читателя может получиться впечатление, как будто современники и очевидцы излагают события». Историк – это учитель, у которого (у единственного) есть какой-то шанс быть услышанным сильными мира сего. Хотя те давно уже и покинули стены университетов и лицеев. Ведь своих советников они часто не ставят ни в грош. Все же Гегель не прав, говоря, что «народы и правительства никогда ничему не научились из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было бы извлечь из нее». Это справедливо в отношении глупых народов и правительств. Умные пытаются научиться. Отсюда настоятельная необходимость честного и нелицеприятного критического анализа духовной и социальной жизни, конкретной деятельности правителей, парламентов, их вождей. Историк – это жрец современности. Ему открыты тайны будущего. Он вершит праведный суд над всеми теми, кто мнит себя вершителями народных судеб. Его святая обязанность: воспеть «красоту, святость, жертвенный подвиг», но и одновременно осудить все «порочное, постыдное и безобразное». В конечном счете ведь любой человек – «существо историческое».[658]
Таким образом, «немцы» становились не только властителями умов и законодателями в науках и образовании, но и провозвестниками давних пороков Европы. Умных они покоряли фундаментальностью, основательностью своих знаний, неудержимой тягой к науке, глупых – костюмами да бражничаньем. Все это надо иметь в виду и нам, особенно учитывая ту роль и место, что заняли немцы в истории и культуре, в управлении Россией. Еще со времен Петра Великого знаменитая Немецкая слобода стала своего рода реальным градом Китежем (Кутежем), а различные немецкие партии то и дело оказывались у власти. Вон и Екатерина Великая была немкой. Да и вообще слишком тесно и органично переплетена история германских и славянских народов. Не секрет, что немцы то и дело устремлялись на нашу землю (как воины, правители, мирные поселенцы). Сюда рвались многие светила немецкой науки.
Немецкое влияние не всегда было полезным, позитивным и разумным… Вспомним хотя бы эпоху «бироновщины», когда правителем Русского государства стал курляндский немец. По словам С. Соловьева, «иго с Запада – более тяжкое, чем прежнее иго с Востока, иго татарское». Тогда нашу страну, как и нынче (в конце XX века), горе-правители отдали на растерзание иноземцам и иноверцам. Власть таких «внутренних немцев» во сто раз хуже и страшнее власти завоевателя-монгола. Сегодняшние бироны особенно алчны, наглы и циничны, ибо они ведут самостоятельную политику. С. М. Соловьев писал: «Но теперь этот самый ненавистный фаворит-иноземец, на которого складывались все бедствия прошлого тяжелого царствования, становится правителем самостоятельным…» И далее: «Россия была подарена безнравственному иноземцу, как цена позорной связи! Этого переносить было нельзя». О том, как вели себя чужеземцы в России при Бироне, говорил митрополит Амвросий в проповеди на день рождения Елизаветы (1741), когда иго немцев пало. Воцарившаяся в Кремле иноземная рать специально разыскивала русские таланты, ученых людей и прочих, чтобы погубить их. Для этого использовалась самая адская тактика. «Был ли кто из русских, – говорил Амвросий, – искусный, например, художник, инженер, архитектор или солдат старый, а наипаче ежели он был ученик Петра Великого: тут они тысячу способов придумывали, как бы его уловить, к делу какому-нибудь привязать, под интерес подвесть и, таким образом, или голову ему отсечь, или послать в такое место, где надобно необходимо и самому умереть от глада, за то одно, что он инженер, что он архитектор, что он ученик Петра Великого»… Одним словом, их действия буквально в деталях схожи с действиями нынешних мучителей России. Оратор заключил речь словами: «Кратко сказать: всех людей добрых, простосердечных, государству доброжелательных и отечеству весьма нужных и потребных, под разными претекстами губили, разоряли и вовсе искореняли, а равных себе безбожников, бессовестных грабителей, казны государственных похитителей весьма любили, ублажали, почитали, в ранги великие производили и прочее». Этот ужас закончился только после того, как Бирон был сброшен с престола и посажен в острог. В России только приход истинно русского государя или государыни может остановить западное иго. Вступление на престол Елизаветы, а затем Екатерины II (хоть и немки) повернет жизнь на русское направление.[659]
Кроме политико-административного гнета, есть и другой гнет, ничуть не менее страшный. Известно, что в XIX в. властительницей дум образованного общества стала немецкая философия. Начало «онемечиванью» русской мысли положили Станкевич, Белинский, Герцен, Бакунин и другие. Станкевич буквально засадил Бакунина за Канта, и тот «по Канту… выучился по-немецки». Увлечение Шеллингом, Кантом, Фихте, Гегелем было столь сильным, что даже неистовый Белинский, человек экстремы, как сказал Герцен, как-то засомневался. Удивительно, что никто из тогдашней разночинной интеллигенции не отнесся критично к такому влиянию, хотя известно, что обыватель редко в состоянии проникнуться духом мудрого, прекрасного, возвышенного, интеллектуального. Как заметил немецкий писатель Ф. Клингер (1752–1831): «Тысячу можно отыскать ученых, пока на одного натолкнемся мудреца». В похожей манере высказывался и романтик Ф. Шлегель. Высоко оценивая способности германской нации, он тем не менее предупреждал: «Говорят, что немцы – первый в мире народ в том, что касается высоты художественного чутья и научного духа, – конечно, но тогда найдется очень мало немцев».[660]
Германскую философию прививал Московскому университету и М. Г. Павлов. Он внес в сознание русского провинциала Шеллингову премудрость («эту Магабарату философии», по словам все того же Герцена). Все пустые и ничтожнейшие брошюры, вьгходившие в Берлине, в других губернских и уездных городах (в Германии и России), где только упоминалось о Гегеле, «зачитывались до дыр, до пятен, до падения листов в несколько дней». Сейчас не будем в деталях разбирать, что тут было вредного, а что полезного – в таком вот почти повальном увлечении немецкой мыслью. Это было крайне опасно по многим причинам. Но прежде всего среди таких новообращенцев даже иные толковые идеи и мысли вдруг делали из кровных русских «закоснелейших немцев», как тот магистр университета, о котором писал Герцен. Приехав из Берлина, «он остановился навсегда, расстроив, ослабив свои способности философией и филологией».[661]
Мода на гегельянство приняла характер и масштаб настоящей эпидемии. «Приезжаю в Москву с Кавказа (осенью 1837 года), – рассказывал впоследствии Белинский, – приезжает Бакунин, мы живем вместе. Летом просмотрел он философию религии и права Гегеля. Новый мир нам открылся» (письмо Станкевичу, сентябрь-октябрь 1839 г.). К их компании присоединился и Катков, прочитавший гегелевскую «Эстетику». Реакция Белинского в ходе беседы о Гегеле: «Боже мой! Какой новый, светлый, бесконечный мир!» Как видите, не только нигилисты-разночинцы, но и наши убежденные консерваторы «пьянели от немца» в России. Вот Станкевич в западническо-подобострастном угаре, хотя и в шутливой форме, бросает русским: «Поцелуй ручку у Грановского и погладь его по голове за то, что он занимается делом и начинает признавать достоинство Егора Федоровича Гегелева» (Г. В. Ф. Гегеля).[662]
Отчего же тогда целая плеяда русских мыслителей и писателей увлеклась гегельянством? Почему столь привлекательным оказался Гегель для интеллигенции? Потому что в его учении они старались найти самые простые ответы на сложные вопросы бытия, что прежде всего и свойственно детски-механистическому разуму. Если народ порой еще подвержен сомнениям, то философы и политики подобного рода – никогда! У них все просто и ясно. Делаем с историей все, что пожелаем. А ведь «товарищ Гегель» ввел в свой исторический «гарем» лишь те народы, которые счел «достойными». Остальные нации ему просто не нужны. Он даже не упомянул о них. Для него нет ни Византии, ни славянства! Н. И. Кареев абсолютно прав, воскликнув: «Тогда как история представляет из себя течение многих параллельных рек, у Гегеля только одна река». Да еще река, полная коварных омутов, водоворотов, о которых он и не думает предупредить читателя. Разум, как и отдельный человек, для него средство на пути обретения нациями «счастья». Гегель, певец арийской расы, подкупал наших западников своей ясностью.
Вот как объяснял причины такого увлечения один из западнических авторов… В тридцатые и сороковые годы русская мысль якобы находилась в периоде младенчества. Не было ни науки, ни философии, но потребность в том и другом была. И вдруг русскому человеку предлагают систему, охватывающую собою все, дающую ответ на все, примиряющую его с жизнью, с действительностью, оправдывающую его ничтожество, открывающую перед ним бесконечное, созерцательное наслаждение! Мудрено было не увлечься – и гегельянство стало дорогим гостем в России. Сколько надо было усилий ума, чтобы усвоить себе систему берлинского мудреца, сколько времени уходило на обсуждение диалектических тонкостей! Это наполняло жизнь, мало того: заставляло пересматривать свои взгляды и убеждения. Русские люди задумались, и притом очень серьезно. Благодаря различию в индивидуальности тех, кто штудировал Гегеля, его философия производила различное впечатление. Воспитавшись на ней, одни стали западниками, другие – славянофилами. Началась знаменитая борьба мнений, проявлением которой можно считать «Философские письма» Чаадаева, помещенные в «Телескопе» за 1836 год, – борьба, наполнившая собою всю деятельность Белинского и, в сущности, продолжающаяся еще до сих пор. Вопрос, являющийся яблоком раздора, ставится, надо сказать, очень странно. Спрашивается: где истина – на Западе или в России? Крайние западники отвечали: истина только в Европе, крайние славянофилы: истина только в России. Поэтому первые проповедовали полное самоотречение, вторые – полное самодовольство. Если же говорить о всем народе, тот в те времена даже своих родимых Белинского с Гоголем, а не то что там какого-то Гегеля крайне редко «с базара приносил». Таковы истоки гегельянства.
Оно, может, и неплохо. Ведь насладиться гегелевской мыслью может далеко не всякий. Как только начинаешь понимать, чего же хочет немецкий философ, сразу проверяешь замки и запоры в собственном доме, в России. В этом случае М. Бубер был прав, сказав: «Мировой дом Гегеля восхитителен, в нем все можно объяснить, ему можно подражать, но как жилье он никуда не годится. Рассудок утверждает его, слово – восхваляет, однако действительный человек сюда не вхож».[663] Действительный человек из народа порой даже и не слышал о нем.
Кстати, то, что этот досточтимый Егор Федорович (Гегель), гордость немецкой и мировой науки, позволял себе в отношении славян, об этом тут и говорить не хочется. Просто-напросто хамско-циничные выпады (с любой точки зрения). Хотя он и не мог не заметить в Европе огромной массы славян, тем не менее, Гегель не только не желал отнести славян в разряд цивилизованных народов, но и вообще отрицал их способность к высшему разуму. Он так писал о славянах: «Однако вся эта масса исключается из нашего обзора потому, что она до сих пор не выступала как самостоятельный момент в ряду обнаружений разума в мире».[664]
Ничего не скажешь, великолепный плод высокого ума. Видимо, мудрый Гёте не зря все же как-то сказал: «Некоторые порожденные его философией плоды ему и не совсем по вкусу». Позднее Белинский в письме Станкевичу (1839) с ужасом вспоминал, что чуть не погиб в самоанализе, рефлексии, самокопанье «по-немецки»: «Боже мой, какая это была жизнь! – нравственная точка зрения погубила, было, для меня весь цвет жизни, всю ее поэзию и прелесть!» Следует помнить, что немец равнодушен ко всему человечеству. Он даже из наших страданий постарается извлечь выгоду. Вот мы восторгались творчеством Гете. Как же иначе?! Ведь мы, русские, вопреки тому морю лжи, что распространяется о нас, привыкли ценить и уважать культуру других великих народов. Даже великий Пушкин, получив от Гете перо, по свидетельству П. В. Нащокина, «сделал для него красный сафьянный футляр, над которым было написано: «Перо Гете», и дорожил им». А как же вел себя Гете, «творец великих вдохновений», в отношении русской культуры и ее ценностей? Известно, что, когда Наполеон вступил в Москву и в столице начались пожары, Гете отозвался об этом горестном событии кратко и цинично: «Что Москва сгорела – нисколько меня не трогает. Хоть в будущем найдется о чем поведать мировой истории» (из письма Рейхарду от 14 ноября 1812 г.). Вместо сердца у немца – ледяная пустыня. Все тот же Гете в 1828 году говорил канцлеру Мюллеру, что вся мировая история его абсолютно не волнует. Она – самое нелепое, что только можно вообразить. «Кто бы ни умер, какой бы народ ни погиб – мне все равно, и глупцом был бы я, если бы все это меня заботило».[665] Эти слова корифея Германии, ее божества, ее идола в основе своей ничем не отличаются от установок и политики Гитлера в отношении России. Поэтому лебезить перед немцем, как и бранить его что есть мочи, намне надо. Просто следует находиться на безопасном расстоянии от «немецкой цивилизации» для нашего же и ее блага.
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 635;
