ТАЛЬОНИ
Что говорит она ногами,
Того не скажешь языком.
П. А. Каратыгин.
Ложа 1 яруса на последний дебют Тальони
...Перейдя за предел человеческой речи...
А. Блок
Тальони сделала для танца столько, сколько не суждено было никому ни до нее, ни после. Она — высший индивидуальный творческий порыв, который мы знаем на путях хореографии. В точности соответствуя передовым идеалам эпохи ее художественный замысел располагал совершеннейшей техникой: проработанная, вышколенная до мелочей и покорная танцевальная машина, новые профессиональные приемы, возникшие одновременно с зарождением нового облика танцовщицы, наконец, совершенно специфичные и своеобразные природные данные. Такое средоточие элементов искусства в одном лице, притом доведенных умным и просвещенным культивированием до предела совершенства, создало танцовщицу, впервые оказавшуюся равной среди равных в «хороводе искусств».
Все, что могли сказать романтическая поэзия, живопись и музыка, могла сказать и Тальони. Впервые за всю новую историю индивидуальный танец смог воплощать передовые идеи искусства своей эпохи. Тальони первая сделала из танцовщика нечто большее, чем он был — развлекатель, плени-тель, мим, трюкач. Она стала в ряд с поэтом, композитором, живописцем. Отсюда — обожание современников, перенесшее ее имя живым через целое столетие, так как для всякого имя Тальони до сих пор вызывает вполне определенный и говорящий образ, чего мы не скажем об именах других танцовщиков, гремевших в свое время светил, начисто забытых историей, известных лишь узкому кругу специалистов.
Нам не придется доказывать значительность Тальони в глазах ее современников и подробно рисовать облик ее танца — это вопрос, многократно освещенный в русской литературе. Мы ограничимся лишь краткой, резюмирующей фразой Левинсона: «Мария Тальони — недаром в жилах ее текла скандинавская кровь — танцевала то, о чем мыслил Кант, пел Новалис, фантазировал Гофман. Но, прошедшая строгую французскую школу, она выводила латинским шрифтом германские мечтания»'.
Тальони бесчисленное количество раз рисовали и лепили, писали о ней в стихах и прозе. Не все ее портреты правдивы и документально ценны, многое в дифирамбах о ней расплывчато. Соберем характерные черты, говорящие нам о технике танца Тальони.
Прежде всего и всюду — легкость, легкость и легкость.
«Умом сияет твоя легкая грация...». «Воздух, чистый и легкий, как она...». «О ты, чья нога... легкий лепесток розы, мечта, затянутая в атлас...». «...Легче птицы...». «Царица воздуха...». «Во всем ее существе необычайная гибкость, во всех движениях легкость, отделяющая ее от земли; если можно так выразиться, она танцует вся целиком, как будто всякий член ее поддерживают крылья...»2. «Она легка, как локон зыбкий...»3. «Вдруг из боковой кулисы выпорхнула наша воздушная гостья с тамбурином в руках, легкая, как пух, не касаясь земли, порхнула она в три прыжка кругом сцены и вдруг остановилась и приветствовала своих северных поклонников»4. «Блаженная тень, видение Елисейских полей, играющее в голубом луче; такова была ее невесомая легкость, а безмолвный полет ее прорезал пространство без малейшего колебания воздуха...»5.
И так без конца. В завершение чудесный анекдот про любезного англичанина и сердитого отца. Тальони, уже знаменитая, приехала на гастроли в Лондон. В нанятой квартире она велела сделать покатый пол, и тут по ночам она работала. Англичанин, живший этажом ниже, просил ей передать, чтобы она отнюдь не прерывала работы и не боялась его разбудить. Эта любезность была воспринята отцом как величайшая дерзость. «Скажите этому господину, — раскричался он, — что я, ее отец, никогда еще не слыхал ни одного шага моей дочери; а в день, когда услышу, я ее прокляну».
Отец, Филипп Тальони, был вообще учитель суровый, и техника досталась дочери недаром; его урок был продолжителен и труден и изнурял Тальони до обморока6.
Вторая черта, поражавшая при первых же выступлениях Тальони, — это «новизна техники»7. Новизна разительная, так как приехала она в Париж уже с «пуантами», выработанными, может быть, еще ко времени дебюта в Вене в 1822 году и, во всяком случае, применявшимися ею в Штутгарте в 1825 году. -
Серия литографий «Воспоминания о балете в Штутгарте»8, изданная в 1826 году, говорит об этом определенно. Литографии эти сделаны в чрезвычайно условной манере, ни одного реалистического штриха в них нельзя уловить, и мы могли бы скептически отнестись к производимому позами впечатлению, хотя определенно кажется, что Тальони на пальцах, так пряма нога и выгнут подъем. Но в двух позах, где мы думаем видеть вынимание ноги на II позицию на пальцах, Тальони стоит не одна, ее держит кавалер.
Это — ново. Это еще не было ни разу.
Да танцовщица в поддержке и не нуждалась, пока танцевала на полупальцах, а устойчивость культивировалась с особенной тщательностью — вспомним «апломбы» XVIII века! То, что «ее держат», не оставляет у нас сомнения: в данных двух случаях Тальони на пальцах. После этого мы доверяем уже и другим позам и насчитываем еще две на пальцах, т. е. всего четыре из семи.
Мы видели, что «пуанты» подготовлялись с самого конца XVIII века; и танцовщики и танцовщицы танцевали чрезвычайно высоко на пол_упальцах, что зафиксировано в последний раз в 1820 году .Блазисом. Блазис в это время в Париже и в курсе всех новинок, но пальцев еще не знает, называя свои «три четверти пальцев» (по Чеккетти) пуантами. На это обратил внимание Левинсон, вопрос о моменте возникновения пуантов его интересует, но дальше поставленного вопроса -— когда же именно произошла эта перемена? — он не идет9.

М. Тальони в балете «Флора и Зефир»
Литография, 1830 г.
Кому, как не Тальони с ее птичьей легкостью, было найти пуанты? Случайно в какой-нибудь позе поднялась она выше, чем всегда, выше, чем на полупальцы, и оказалась на пуантах. Это наше предположение, конечно, доказать его нельзя — никто нигде не отмечает появления пуантов, но все в один голос говорят о «небывалой» легкости Тальони и о «совершенно новом стиле» ее исполнения. Этот «новый стиль» заботливо оберегался отцом Тальони: недаром он в первые годы ее танцевальной карьеры предпочитал «отказываться от выгодных ангажементов и не хотел подвергнуть дочь произволу какого-нибудь балетмейстера. Свободная в своих поступках, Мария могла предаться исключительно тому жанру исполнения, который избрала»10.
Мы решаемся ответить на вопрос, который ставит Левинсон: пуанты появились в промежутке трех лет, от 1822 по 1825 год. В 1820 году они еще неизвестны, в 1826 году они зафиксированы на первых изображениях Марии Тальони, она и встала на пальцы первая.
Этот прием, осознанный ею и ее учителем, отцом, как технический прием, лег в основу новой школы. Не только «тальонизирующие» — подражавшие художественным приемам Тальони, — все танцовщицы затанцевали на пальцах, и с этого момента со школой XVIII века было покончено. Перелом, перешедший в революцию, был завершен.

М. Тальони в балете «Флора и Зефир»
Литография А.-Э. Шалона, 1831 г.
Посмотрим парижские рецензии на первые выступления Тальони. Цитируемая Соловьевым рецензия, которая начинается словами: «Как! Двадцать пять градусов жары и почти полный зал!..» — гораздо интереснее в отброшенной им части. После общих фраз и сдержанных комплиментов дебютантке, которую Кастиль-Блаз вообще немножко третирует как очень юную «молодежь» (считая, что ей всего восемнадцать лет), идут интересные технические детали: «Мы не забыли г-жу Госселен-старшую; изумительную ее гибкость; силу мускулатуры, позволявшую ей повисать в воздухе на носках (Г extremite des pieds) в течение минуты или двух; легкость ее танцевальных эволюции; изящество сложения; наконец, поразительную непринужденность при исполнении трудностей, с непосредственностью, естественностью и мягкостью, которые и есть верх искусства, ибо искусство за ними вполне незаметно... Г-жа Тальони кажется нам способной заменить танцовщицу, которую мы потеряли... Характер ее танца во многом схож с танцем предшественницы. Почти тот же рост, та же смелость поз, та же гибкость движений...» И далее: «Танец в узком смысле слова — это способность давать отчетливые позы, двигать ногами с точностью, с быстротой и с тонкостью отделки; заканчивать прыжок на пальцах в ритме и с устойчивостью (sur la pointe des pieds); но это все только механизм танца, и, даже если тут и достигнуть совершенства, все же имя артиста еле-еле заслужено». Дал ее-рецензент ставит в пример Тальони г-жу Биготтини и г-жу Монтесю (!). В заключение снова советы Тальони работать и подражать прекрасным примерам.

М. Тальони в балете «Бог и баядерка».
Литография А.-Э. Шалона, 1831 г.
Знаменательно, что Кастиль-Блаз не разглядел еще пуантов Тальони — он их приравнивает к полупальцам г-жи Госселен. Стоять на пуантах, «повисать в воздухе... в течение минуты или двух» — нельзя; это описание явно совпадает со знакомыми нам «апломбами» XVIII века. Так же нельзя закончить большой прыжок на пальцах; что дело идет о большом прыжке, видно из контекста, говорящего о попадании в ритм — против этого грешат танцовщики именно при больших прыжках. Пуанты Тальони воспринимались, зрителем лишь как предельная легкость.
Тальони закрепила и другое завоевание женского танца: большие позы и большие линии, «теряющиеся в бесконечности». «Любимая поза Тальони давала это впечатление таяния в беспредельном пространстве». Это был ее арабеск с простертыми вперед и вверх руками. «Непомерная длина конечностей способствовала тому, что линия, проходящая от кончика пальцев до носка, казалась неизмеримой. Так, из недостатка в пропорциях сложения Мария Тальони умела извлечь один из самых захватывающих своих эффектов»12.
Гравюрка Chalon'a передает эту позу, хотя сильный ракурс скрадывает длину линий.
Несмотря на то, что все выносили от выступлений Тальони впечатление полной непринужденности и естественности движений, танец ее был очень правилен. «Под прозрачным покрывалом стальной остов; под облаками кисеи геометрия чистого рисунка»14. Это и немудрено у такого требовательного и беспощадного учителя и при его трехчетырехчасовых уроках15.
К счастью, урок Марии Тальони, урок ее отца, не пропал бесследно, мы можем восстановить его во всех подробностях с начала до конца. Думаем, что на профессионалов танца должна произвести некоторое впечатление та колоссальная сумма усилий, которая затрачивалась Марией Тальони ежедневно, а иногда и по два, по три раза в день для поддержания своего мирового первенства; также поучительна необычайная скромность урока, то, что Тальони не пренебрегала ежедневной, мелкой, щепетильной последовательной подготовкой рук, ног и корпуса, прежде чем войти в большую и сложную, артистическую часть урока.
Ученик Филиппа Тальони Леопольд Адис, один из последних представителей расцвета французской школы классического танца, в своей книге, посвященной «гимнастике театрального танца»16, зафиксировал весь урок своего учителя и, прямо и не оставляя никаких сомнений, говорит: «...надо помнить, что этот урок служил ежедневным упражнением первому образцу танцевальной французской сцены Марии Тальони»17. Проследим за уроком Тальони шаг за шагом.
У палки Тальони работала полчаса. Вот последовательность ее экзерсиса у палки:
1. Плие на всех пяти позициях, с обеих ног на III, IV и V, по шести раз, три медленных и три скорых; всего сорок восемь плие.
2. Grands battements, по шестнадцати раз: вперед, правой и левой; вбок, заканчивая в V позиции спереди, правой и левой; назад, правой и левой; вбок, заканчивая в V позиции сзади, правой и левой. Всего сто двадцать восемь батманов.
3. Pettits battement (по нашей терминологии battements tendus simples), вперед, и назад с каждой ноги по двадцать четыре раза; всего девяносто шесть.
4. Ronds dejambe par terre (маленькие, у нас называемые «быстрые»), en dehors и en dedans, обеими ногами по тридцать два раза. Всего сто двадцать восемь.
5. То же еп Г air. Всего сто двадцать восемь.
6. Petits battements sur le сои de pied. Медленные и быстрые. «Медленные» соответствуют battements frappes, по нашей терминологии, по тридцать два каждой ногой, всего шестьдесят четыре. «Быстрые» и есть наши petits battements, по шестьдесят каждой ногой, всего сто двадцать.
Общий итог всех движений у палки — шестьсот сорок восемь.
Затем все это Тальони повторяла на середине, прежде чем перейти к «апломбам», т. е. к адажио, по нашей терминологии. И это иногда повторялось два раза в день. «Мы сами видели, — говорит Адис, — как Тальони работала по два раза в день, она же уверяла нас недавно, что во времена дебютов она работала до трех раз»18. .
Прежде чем перейти к «апломбам», проделывался «temps de courant», «что теперь предоставлено начинающим». Но у Филиппа Тальони всегда начинали адажио с этой комбинации, чтобы подготовить весь корпус, руки, особенно бедра, колени и подъем к предстоящим «апломбам». Так было и в ежедневном уроке Марии Тальони. «Temps de courant», как пишет Адис (в сущности «temps de courante»), в жаргоне танцевального класса превратилось в «temps-courarit». Это па уже во времена Адиса «забыто многими». «Temps de courante» состоит из plies в III позиции, затем во II, сопровождаемых округлым движением рук en dehors и en dedans; сначала •простым, т. е. только с одинаковым движением обеих рук, потом сложным, т. е. исполняемым руками, движущимися в противоположном направлении и по два раза. Проделывалось четыре раза вперед и четыре раза назад, сначала простое, затем сложное, что заставляло повторить всю комбинацию шестнадцать раз, с ее тридцатью двумя plies.

М. Тальони в балете «Дева Дуная»
Литография
Затем следовали demi-coupes (похожие на temps lie) в продолжение,двадцати пяти минут. «Этот прием теперь совершенно забыт во всяком классе». Demi-coupes делались «a la premiere», «a la seconde» и сложные (composes) следующим образом: встать в III позицию, открыть правую на II позицию носком в пол, привести в I позицию и продолжить это движение, делая demi-plie и выводя ногу вперед на IV позицию носком в пол; опустить выворотно пятку. Левую ногу подвести в I позицию и открыть на большую II, опустить ее носком в пол и повторить комбинацию с другой ноги. То же проделывается назад, в обратном направлении. Сложным называется demi-coupe, когда к той же комбинации прибавляются следующие усложнения: открытая на II позицию нога проделывает demi-grand rond de jambe en dehors и останавливается на II позиции; тогда проделать на полупальцах медленный tour d'aplomb en dehors. При движении назад все проделывается en dedans. Эту комбинацию повторить, и то же самое проделать, исполняя grand rond de jambe и двойной tour d'aplomb. Каждый раз по четыре demi-coupe вперед и назад, всего тридцать два demi-coupe.
За demi-coupe следовали аттитюды, такими же длинными и непрерывными комбинациями, требующими развитого дыхания. Они делались с различными preparation, с поворотами в один и два тура — всего тридцать два атти-тюда.
Следующее па — grands fouettes en face и en toumant, также непрерывной и долгой серией: en face — одно, с каждой ноги, потом по два и по три — всего — двенадцать, и сейчас же en tournant по одному, по два и по три поворота с каждой ноги — двенадцать; а всего двадцать четыре fouettes.
Следовало temps de chaconne или fouettes ballottes со все ускоряющимся темпом в количестве сорока.
Затем quart de tour также все подряд: восемь en face, восемь по четверть тура en dehors, четыре по полтура и два по туру; то же en dedans. Всего тридцать шесть.
Наконец — элементы различных видов пируэта. Прежде чем перейти к самим пируэтам: preparation de pirouette a la grande seconde, en attitude, также и sur le cou-de-pied. Эти preparations терпеливо проделывались сначала en face — одна, две, три подряд с каждой ноги; всего сорок восемь preparations. Затем повороты делались медленные, «нефилированные», и только после всего этого Тальони позволяла себе «филировать пируэты», т. е. исполнять то, что мы зовем турами на пальцах. Исполнялись пируэты: a la grande seconde, законченный sur le cou-de-pied; a la grande seconde, законченный на attitude; a la grande seconde законченный на арабеск; pirouette renversee. Проделывались сериями по три, по шесть и больше.
Заключался урок temps terre a terre и temps de vigueur; это были серии entrechats, ronds de jambe, brises, fouettes, sautes, sissonnes. К сожалению, эту часть урока (по нашей терминологии allegro) Адис только упоминает, относя подробное описание ко второй части труда, оставшейся ненапечатанной и хранящейся в музее Парижской оперы.
Таким упорным, «скучным» и однообразным, ежедневно повторяемым уроком выработала Тальони свой надолго оставшийся легендарным апломб и точность, отчетливость исполнения; верхом совершенства были ее адажио, которые она исполняла solo, не нуждаясь в поддержке19.

М. Тальони в балете «Сильфида».
Литография А.-Э. Шалона, ок. 1846 г.
«Тальони танцевала лучше и иначе, чем до нее»20 — как говорит Верон. Тем не менее она не прибегала ни к каким тур де форсам, столь любимым в предшествующую эпоху; сложные пируэты, мудреные па не входили в ее танец. Из найденных ею пуантов и несмотря на то, что она была в них очень искусна21, Тальони не сделала трюка, во что они превратились очень скоро. Она носила легкий и мягкий башмак, считаясь лишь с потребностями прыжка и с возможностью беззвучного передвижения по сцене22. Прыжки, замирание в воздухе, баллон — другая основа школы Тальони23. Слонимский указывает интересную паузу, найденную им в репетиторе «Сильфиды»: «Между третьей и последней четвертью такта в ее вариации кем-то отмечена длительная пауза, прерывающая движение прыжка. И настолько выразительна эта музыкальная фраза, что, кажется, видишь застывший в парении силуэт (см. музыку выхода Сильфиды в «grand pas des sylphides» во 2 акте)»24.
Костюм, введенный Тальони, направлен к той же цели. Длинные легкие широкие белые юбки, совсем простой белый скромный корсаж, самое большее что веночек или букет цветов вместо всякой мишуры — это все создано,, чтобы подчеркивать большие линии, полеты, отрешенность от трюка.
Вот один из ранних отзвуков облика Тальони в литературе — Индиана Жорж Занд: «Простота туалета одна уже выделяла ее среди брильянтов, перьев и цветов других женщин. Никаких драгоценностей, кроме жемчужных нитей, вплетенных в черные косы. Белизна матовой шеи, легкого платья и обнаженных плеч сливались в одно, и жаркий воздух бального зала еле оживил ее щеки легким румянцем — лепесток розы на снегу. Маленькое существо, миниатюрное и легкое; комнатная красота, которую блеск свечей делал сказочной и которая померкла бы в лучах солнца. Танцуя, она была так легка, что малейший ветерок, казалось, унесет ее; но легка была она без живости, без радости. Когда она садилась, тело ее гнулось, словно не имея силы поддерживать себя; когда она говорила, она улыбалась, а лицо ее было печально. В те годы успех фантастических рассказов был еще совсем новым; и знатоки этого литературного жанра сравнивали молодую женщину с очаровательным видением, вызванным чарами колдовства; лишь только забелеет рассвет, виденье побледнеет и исчезнет, как сон»25.
Тальони хотела говорить только танцем, и танцем таким, как она его понимала. Она пошла вразрез с долголетними привычками публики; несмотря на все перевороты, танцовщица, как и в XVIII веке, должна была прежде всего «пленять». Старая школа во главе с О. Вестрисом хотела видеть в артистке очаровательную «куртизанку»; ампирный костюм танцовщицы26 обнажает ее с явно эротическими подчеркиваниями, а советы Вестриса на уроках, которые слышал и записал Верон, звучат совсем цинично: «Милые мои, будьте очаровательны, кокетничайте; покажите в своих движениях самую увлекательную вольность; надо, чтобы и во время и после вашего па вы вызывали влюбленность; пусть весь партер и весь оркестр охватит желание провести с вами ночь»27.
Очень индивидуальны и руки Тальони. В жесте ее руки не только романтизм. Она не только разбила четкие и строго размеченные «позиции» и бросила руки в улетающие жесты. Еще больше поражает «ослабленность» рисунка рук, их житейский, домашний, интимный облик. Часто левая рука небрежно и мягко приведена к левому плечу; иногда одна рука совсем не «танцевально» заложена за спину. Это, по-видимому, два любимых, привычных движения Марии Тальони. Руки в позах нарочито не поддерживаются в локте, а сохраняют какую-то девическую беспомощность; это отнюдь не «красавиц городских давно бестрепетные руки».

М. Тальони и А. Гуэрра в балете «Тень».
Литография Ж. Бувье, ок. 1846 г.
Такая интимность, такая «трепетность» движения рук и были одним из мощных очарований Тальони, делающих ее столь «новой», столь «ни на что не похожей» по сравнению с другими танцовщицами французской школы, ученицами Гарделя и Вестриса, правильно заученным жестом несущими свои руки по строго установленным позициям классных упражнений.
Когда мы смотрим на руки Тальони, мы перекидываем нить не к руладам и выкрикам романтической драмы, не к дебрям романтического романа, не к риторике В. Гюго. Приходит в голову ощущение интимностей психологии, если не суховатого «Адольфа», то Стендаля и некоторых уклонов Бальзака.
Другими словами, в руках Марии Тальони сквозь дымку романтизма ясно выражены элементы нарождающегося реализма, как оно и было во всех больших явлениях романтического искусства. Когда мы перекинемся в 60—70-е годы и далее, мы встретим у представительниц французской школы эти самые руки Тальони — слабые, провисшие, житейские. Но как они выродились! От них веет не очарованием девической непосредственности — они в свою очередь стали «манерой», подражанием «образцу», поскольку авторитет Тальони на долгие годы заполонил все устремления танцовщиц. И в исполнении подражательниц, в этих «списках» с оригинала, тальониевский жест предан с головой: он делит облик на две резкие, области — вымуштрованные ноги и корпус и словно привязанные, чужие, простецкие, вялые руки. В танце Тальони о такой дисгармонии не может быть и речи, руки — неотъемлемая органическая часть всего целого. И тем не менее мы не можем не признать отголоска тальониевского жеста в этих позднейших однобоких копиях.
Тальони, вовсе не красивая от природы, почти горбатая, с впалой грудью, из своих недостатков и тут сделала стиль; она изгнала женщину из своего танца, отвернулась от всех ужимок «куртизанки» и победила, доказав, что танец — самодовлеющая сила, способная держать зрителя в своей власти, говорить языком бескомпромиссного искусства и вызывать фанатические восторги28.
Огюст Бурнонвиль, танцевавший с Тальони; так говорит о ней: «Она подымала меня над землей, и мне хотелось плакать, глядя на ее танец... Тальони была более совершенная технически, Эльслер брала реванш в. балетах характерных... Тальони вызывала слезы восхищения, Эльслер — улыбки удовольствия»29.
В заключение мы приведем письмо Рахели фарнгаген, поклонницы и друга Фанни Эльслер, тем самым очень вооруженной против Тальони, хотя сама она выдвигает свою «непредвзятость», но кто же более пристрастен, чем люди, подчеркивающие свое беспристрастие! Письмо этой остроумной, образованной и передовой женщины, объединявшей около себя все романтическое общество .Германии, очень язвительно; тем не менее ее острый взгляд, опытный в театральных восприятиях, уловил кое-какие реалистические штрихи, которые дорисуют нам облик Тальони и дадут некоторые детали ее танца, хотя и воспримем мы их иначе, чем Рахель.
«...Тальони я вовсе не нахожу такой сверхъестественной, как все, говорящие, и смотрящие, и слушающие, и — ну, да — и переживающие. Она трогательна в Сильфиде, и трогательно ее лицо, и я плакала. И никакого предвзятого мнения; это-то ты за мной знаешь. От темени до талии это один человек; от талии до носка — другой. Наверху она утонченная, романтичная, трогательная; но самое большее — трогательная русалка, которая полюбила, самоотверженно, давая себя в обиду. Ни безумия, ни восторга, ни обожания, ни преступности; и без залитого солнцем неба! Ниже талии, по сравнению с торсом, она слишком колоссальна. И нет у нее от природы — что так красиво — близких, сомкнутых пяток (ноги «иксом». —Л. Б.). Большие, не принадлежащие к телу ступни, которые все гнутся; да и все время она подгибает ноги (присядет и взлетит, вместо того чтобы попросту прыгнуть) и вообще больше делает вид, что прыгает, но в сущности подымается слишком мало. Обманывает тут всю публику. Крепкого итальянского подъема тоже у нее нет. Она даже неустойчива. Грация есть: однако не только природная, но еще и надуманная; а раз я это вижу, нахожу ее не довольно проработанной, условной, французской, впрочем, выполненной на основании природной (короче, Зонтаг в танце — только та более цельная, более природная, больше живет моментом); все же природная грация есть, и трогательное лицо. Но то, что я разглядела прежде всего, как вдруг разглядишь какой-нибудь угол, какое-нибудь пятно, это, как говорил граф Тилли, — «elle fait main, elle fait doigts», что того хуже (надуманные, вымученные положения кисти и пальцев. —Л. Б.). Мне это очень мешает. А ведь достаточно было только ей указать. Но как раз это-то восхищает публику. И даже лучших, Ventre Dieu! Я совсем одна. Разве что Шаль того же мнения; только главную деталь понимает он не так, как я. Теперь мы дошли до главных разоблачений: она танцует рядом с музыкой; elle n'en est pas penetree, et voila ce qui manque a ses membres (она ею не проникнута — вот чего не хватает ее членам), они не живут в едином (как у Фанни Эльелер). «Теперь вот это будет красиво; теперь я сделаю это; сейчас я легка; сейчас поворачиваю шею; вот я делаю поворот; теперь уронила руки; теперь сгибаю все тело и склоняюсь низко; вот я выпрямляюсь». Все впустую! Музыка протекает мимо; как прохладный поток из живого родника впитывает солнце, лучи, свет, тени, зелень — живет со всей природой вместе. Она же — читает лекцию! Нельзя сказать, чтобы она не трогала, не нравилась; но — она такова. Ты ведь мне веришь. Magra, magra, magrissima! (Худая, худая, худейшая!) Руки вымазаны белым, как и вообще вся; очень ее не красит! Фанни вся розовела, даже и руки. Тереза была богиней спокойствия; идеальный сон о лебеде, который и не приснится даже. Фанни меняла всякий'шаг с каждым услышанным звуком. Жила, творила, применяла выучку, высокую итальянскую школу, пусть даже нашпигованную ошибками и недомыслиями своего времени. Этого-то достаточно и у Тальони...»30.
Портрет— злой; что детали сложения, заведомо полного недостатков, не выдуманы, что так и было, более чем правдоподобно: и ноги «иксом», и непомерная их длина, и большая ступня — все это более или менее отразилось на портретах Тальони. Как следует отнестись к обвинению в неустойчивости, думается, ясно из приведенных выше компетентных слов Адиса. Тем более в недостаточность прыжка верить трудно — это указание идет слишком вразрез со всеми прочими, хотя бы наивный восторг Асенковой: «Ах! голубчик Сашинька, как танцует! Ну ведь вы видели Круазетт, ну ведь чудно кажется танцует? А эта никакого сравнения, как небо от земли; она просто летает. Два кружка сделает, и уж на конце сцены...»31.
Упрек же в натянутости, выдуманности и пр. и пр. — это все очень понятно: говорит поклонница Фанни Эльелер, любящая ее совершенно обратную манеру и потому неизбежно непонимающая, неумеющая ценить умный, проработанный, отвлеченный танец Тальони, причем ее холодная белизна раздражает даже Рахель при воспоминании о раскрасневшейся от танца Эльелер. Кроме того, Рахель Фарнгаген не переносит вообще французскую^ школу, о которой пишет: «Школа, вытягивающая члены, без мысли и чувства, школа, которую я ненавижу, которая меня парализует своей скукой, современная французская школа» з2. После этого нельзя и ожидать, чтобы ей полюбилась Тальони, поднявшая на новую высоту, выведшая на новые пути эту самую французскую школу. Потому что, если семья Тальони и космополитична по происхождению и благодаря вечным странствиям, все же Филипп Тальони — давний член балетной труппы Парижской оперы. Таким его считает и парижская критика: «Уже один Тальони украшал своим талантом нашу оперную сцену; несколько времени тому назад он покинул театр и отправился за границу, пропагандируя совершенство французского танца. Этот Тальони, хотя и итальянец по происхождению, француз по воспитанию, по вкусу и по изяществу»33. В манере своей он освоил и продолжил стиль французской школы: ученая хореография высшей квалификации. Эту школу необыкновенно широко и метко определяет случайно брошенная, короткая фраза Блазиса. В своем «Code of Terpsichore»34 он замечает: «Парижские танцовщики установили правильный метод для достижения стройного и полного достоинства (dignified) исполнения». Это исчерпывающе точное определение классического танца в его французском преломлении, доведенном до кульминационной точки Марией Тальони и ее отцом. Танец, «полный достоинства», «dignified», танец, который может танцевать человек, мыслящий, «как Кант», поющий, «как Новалис», фантазирующий, «как Гофман».
Как мы далеки от жонглера, «ломающегося» в угоду сеньеру или посетителям кабачка, от морескьера, стоящего много ниже плотника, от арлекина, вытворяющего среди прекрасного танца непередаваемо непристойные и унизительные шутки, и даже от танца XVIII века, только еще мечтавшего быть не ниже драматического искусства и торжествующего, когда выходит так же хорошо, «как в трагедии или комедии», причем не должно забывать, что первая л обязанность и танцовщика и танцовшрцы все же была «пленять»35. Весь этот долгий, страдный профессиональный путь' скопил богатый арсенал хореографических приемов, так проработал человеческий двигательный аппарат, что сделал из него послушную машину, более покорную интеллектуальным намерениям танцовщика, чем непосредственным инстинктивным импульсам.
В самом деле, посмотрим на другие виды танца: где встретим мы этот высокий строй всего инструмента, эту возможность говорить о широких человеческих интересах, если не в театральном профессиональном танце и в его ученой хореографии? В народных, этнографических доминирует эрос, более или менее завуалированный, религиозная основа давно потеряна и не ощущается в атавистических пережитках; но эрос — это не весь человек. Бытовые танцы городских слоев общества —- механизированное, стиснутое рамками «моды», «приличия» развлечение. Танцы экстатические, сектантские выпускают на волю подсознательную жизнь, и, во всяком случае, танцующий сектант — неполноценное человеческое существо. Танцы профессиональные на ярмарочных и аналогичных подмостках — это старые наши знакомые, продолжатели жонглерства, один из видов «ломанья» на потеху.. И даже итальянская школа театрального танца всегда культивировала ту же свою линию виртуозного танца, не очень заботясь о доведении его до уровня выработанного, сознательного искусства (мы не говорим о Вигано, стоявшем совершенно особняком). По указанию Блазиса, вывели итальянский танец из такого «грубого и неотесанного» состояния французские балетмейстеры, работавшие в Италии, из которых первым был Новерр.
Мы не можем отказаться от убеждения, что перелом в революцию -— для танца решающий момент глубокой важности. Все достижения техники за эти годы чрезвычайно обогащают танец именно интеллектуально: большие линии, которые легли в основу рисунка, приближение к пуантам и — явление чисто умозрительное — приближение техники танцовщицы к мужской, т. е. элемент отвлеченности в ней, наконец, геометризированный «телеграфический» танец36— это все материал для хореографии, желающей говорить о большем, чем о хорошеньких женщинах, их любовных переживаниях и страданиях, о ловкости их быстрых ножек и неге поз или о шармах «галантного пастуха» и его танцевальных рекордах, о человеческих, вернее, «актерских», драмах героя.
Танец может больше; танец может открывать нам перспективы на окружающий мир, неуловимые более грубым, более ограниченным в средствах анализом других сценических искусств. Литературность, лирика — одно, у них своя речь; танец говорит по-своему, облекая в геометрические формулы явления жизни. Его язык — отвлеченный и в то же время во много раз более конкретный, чем всякий другой: восприятие танца проникает глубже в сознание, чем одни зрительные или слуховые впечатления; к ним примешиваются и моторные — наиболее твердо запоминаемые и усваиваемые. К этому он «извлекает» какие-то «корни» из ситуации, доводит ее до простоты и ясности формулы, которую и кладет в основу геометрии своих линий.
Если когда и было с очевидностью ясно, что танец, родившийся в одно время с музыкой, может догнать своего близнеца, то это было во времена Тальони. Ее принимали «всерьез», и ее танец был очень видным фактором культуры времен романтизма. Именно танец, так как талантами «мимистки» Тальони не славилась. Все ее балеты задуманы целиком танцевально. Это явствует из указаний Castil-Blaze'a, очень скоро ее оценившего. «Некоторые критики находят пантомиму Тальони недостаточно выразительной — актриса в ней якобы ниже танцовщицы», — говорит он, но с этим мнением не соглашается. Если Тальони не подражает толкованию своих предшественниц, то это потому, что роли ее задуманы целиком, а не разыгрываются кусочками. «Весь жанр Тальони отвергает преувеличения; она не может принять гримасы и ужимки старой школы, условные приемы, принятые в мимике сообразно с уровнем понимания мало развитой и непривыкшей к способам выражения искусства публики. Мы уже понимаем с полуслова»37. Еще несколько уточняет образ Тальони указание того же Кастиль-Блаза: он видит аналогию в позах Тальони с позами персонажей Жироде и говорит про то, что Паста уже показала «эту простоту жеста, благородную и привлекательную».
«Мы уже понимаем с полуслова». Перемену стиля, внесенную Тальони во французский танец, современники рассматривают, как революцию38; это так, если брать спектакль в целом. Но если ограничиться одной техникой, правильнее, думается нам — мы уже это и указывали, — рассматривать новую технику Тальони как завершение произошедшего за четверть века переворота, где налицо все ее технические приемы, кроме пуантов; но и пуанты в таком виде, как их практиковала Тальони, т. е. остановки в позах, небольшие пробеги, были подготовлены. Тем не менее Тальони завершила и подготовила новую технику, и открывающийся новый этап французской школы по справедливости считается школой Тальони.
Причем влияние ее немедленно было воспринято итальянской школой, в которой практика пуантов очень скоро была освоена своеобразно, в соответствии с общим виртуозным жанром итальянцев. Яркой представительницей итальянского подхода к танцу была счастливая соперница Тальони Фанни Эльслер, ученица этой школы.
Ф. Эльслер закончила свое танцевальное образование в Милане и Неаполе, где провела три года, от четырнадцати до семнадцати лет. Живой, виртуозный танец итальянок, их энергичная и выразительная игра оказались вполне отвечающими природным наклонностям Ф. Эльслер, до того сдерживаемым строгой школой первого ее учителя Омера — француза. Фанни вернулась в Вену с итальянской манерой и итальянской силой, правда, не заразившись ни резкостью, ни тривиальностью, а смягчив чужую манеру природным вкусом и незабытыми уроками Омера. Очень трудно вынести из рецензий первых ее лет какое-нибудь точное указание о технике Фанни — для этого надо дождаться первых выступлений в Париже в 1834 году. Но у нас есть зарисовка сцены из балета «Оттавио Бинелли» 1830 года, в котором танцевала Эльслер:-в центральной группе все четыре солистки стоят в аттитюде на пальцах, их поддерживает кавалер.

Ф. Эльслер в балете «Остров пиратов».
Литография, 1835 г.
Когда Ф. Эльслер протанцевала в первый раз в 1834 году в Париже балет «Бурю», она была встречена очень восторженной прессой, нашедшей ее танец совершенно ни на кого не похожим. «Профессионалы называют этот вид танца taquetee; он состоит главным образом из быстрых мелких па, правильных, убористых, въедающихся в пол и всегда настолько же законченных и энергичных, насколько они грациозны и блестящи. Пуанты играют в нем большую роль, они привлекают взгляд и удивляют мысль; они готовы пробежать вокруг сцены без малейшей усталости и без того, чтобы привлекательная особа, которую они поддерживают, потеряла бы хоть что-нибудь из своего невероятного апломба и очаровательной мягкости...»39. В другом месте мы читаем: «С удивлением мы увидели ее бег на пуантах, столь острых, столь живых, столь непринужденных и проворных»40. И занятное слово, говорящее нам об уже крепком носке Эльслер: «...бурные приветствия, заглушающие дробный стук ее мелких шажков на пуантах»41. «То,^ что на языке королевской академии музыки условно называется пуантами, у нее удивительно, лучше их не бывает». «Пуанты, будто касающиеся раскаленного пола»42 — вот во что превратилась эта находка Тальони у противоположных ей по стилю артисток.
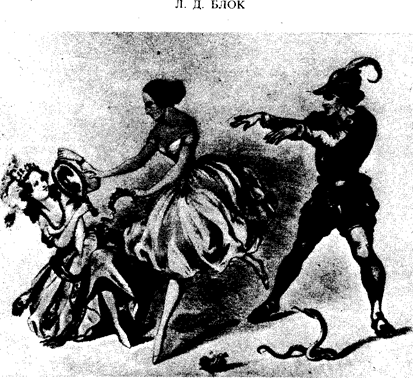
Ф. Эльслер и Ж. Перро в балете «Фауст».
Литография, 1831 г.
Совсем под влияние Тальони подпали многие и стали «тальонизировать», как говорит Кастиль-Блаз. Ближе всех подошли г-жа Юлия, г-жа Альберт и Перро, «исполнение которого было во многом аналогично танцу Тальони... в нем она нашла достойного партнера»43.
«Перро, знаменитый танцовщик, в настоящее время пер-. вый балетмейстер, был подлинным образцом для танцовщика demi-caractere; он с равным совершенством танцевал в трех жанрах: terre-a-terre, сильные па и па с элевацией и большим баллоном. Трудно было поверить, что это тот же человек, тот жедсполнитель»44.

К. Гризи и Ж. Перро, исполняющие польку.
Литография Ж. Бувье, ок. 1846 г.
Перро — последний танцовщик вXIX веке, которому удалось завоевать на сцене место, равное с балериной. Времена изменились: в XVIII веке и в началеXIX вершиной танца почитался танец мужской; это нашло наивное выражение в том, что везде имена премьеров пишутся впереди имен балерин — во всех списках, например альманахов, в рецензиях; еще в 1830 году45 имя партнера Тальони стоит в рецензиях впереди ее имени, при упоминании pas de deux. Балерина вознесена славой таких танцовщиц, как прежде всего сама Тальони, после нее Эльслер, Гризи, на пьедестал, недосягаемый для танцовщика, превратившегося также и в силу перемены в стиле танца во вспомогательную величину, в «поддержку» при пуантах, «в катапульт», которому поручено бросать танцовщицу в воздух и ловить ее на лету. Сила ног — уже недостаточная рекомендация для ангажемента танцовщика; от него более не требуется улетать к колосникам и там задерживаться, не ждут от него ни очарования Адониса, ни красоты Аполлона; от него хотят только, чтобы он не был безобразен сверх меры и мог бы жонглировать без заметных усилий грузом в двести фунтов. «Можно сказать, что танцовщик более не существует» 46. Вот как рисует положение мужского танца в 1857 году Ш. де Буанье. С горечью говорит о том же Сен-Леон: «О, времена изменчивы! Прежде плясуньи, как милости, ждали улыбки полновластного владыки танца; теперь презираемое племя плясунов заискивает, чтобы получить благосклонный кивок последней из корифеек»47. А в 1867 году просвещенный знаток театра Л. Селлер эту перемену не только приветствует, но еще и мимоходом, как очевидную вещь бросает:
«Вообще, можно ли себе представить что-нибудь более неизящное, чем танцовщик?»48
Но еще в 1844 году Alberic Segond, рисуя неудачные балетные выступления в оперном спектакле, с каким-то особенным отвращением говорит о танцовщике: «О ужас! Г-н Фремоль, мерзостно завитой, протанцевал такое па, которое могло понравиться разве на балаганах. Я закрыл глаза при этом удручающем зрелище...»49. Ту же гадливость вложил и Гаварни в свою иллюстрацию к этим фразам. Положительно, в Париже больше не хотели смотреть на танцовщиков; кончилось это полной утратой стиля мужского танца к концу века, так как введено было широкое применение травести, а танцовщик был представлен лишь тусклыми малочисленными артистами для неизбежной поддержки.
Отказавшись от мужского танца, парижский балет отказался от своего первенства, так как перестал быть полноценным, хореография его сделалась однобокой. С середины XIX века гегемония его потеряна. Но не в одном этом явлении причина померкшей славы театрального танца Франции. Л. Адис видит ее в потерянной традиции преподавания. «Наш театральный танец в упадке. Тонкий вкус, изысканность воспитания, возвышенность, прямота и логичность техники — вот характерные черты наши, великих артистов прежних дней, служивших примером молодежи; все это погасло у нас окончательно. Унаследовали нашу хореографическую славу иностранцы; они восприняли принципы и вдохновились традициями, составлявшими силу наших учителей; они перенесли эту науку к себе и придерживаются ее до сих пор; когда нужен талантливый исполнитель, мы идем его занимать, так как у нас таких больше нет...»50.
Приводим еще несколько отрывков из тех же сетований Адиса на современное ему состояние преподавания танца, так как они кроме картины полного упадка школы содержат некоторые указания, не лишенные интереса и для нас.

Ж. Перро в балете «Эсмеральда»
Литография, середина XIX в.
Одна из причин упадка — это беспорядок, введенный в урок; каждый хочет быть новатором. «Я также укажу на злосчастную манию некоторых, ежедневно меняющих свой урок; эта мания не приносит никакой пользы учащимся, и в ней нет действительной нужды для обучения»51. Кроме того, урок вообще слишком легок, экзерсис у палки не повторяется на середине, а адажио состоит из легких и коротких комбинаций, не развивающих дыхание, а подобных тем, которые артисты проделывают охотно сами, импровизируя сообразно своей индивидуальности. «Что же касается пируэтов, то их не изучают вовсе, и мы готовы побиться об заклад, что нам не назовут ни одной танцовщицы, которая решилась бы сделать два тура»52.
В прежние времена во время урока по несколько раз меняли белье; «одевались просто и чисто» и не боялись помять и испортить прическу. Теперь с утра причесаны для предстоящих днем визитов.
И печальное заключение53: «Действительно, скоро уже двадцать лет, как французская школа не выдвинула ни одного выдающегося артиста; давно первые места заняты иностранцами».
Иностранцы эти, главным образом, конечно, итальянцы; но иногда появляются и северные танцовщицы — датчанка Люсиль Гран, русская Андреянова. Русская школа танца начинает выдвигать крупные таланты, в Россию перекинулся «тальонизм», где расцвет его был прекрасен.
В таком значении слова, в значении усвоения легкой, невесомой, тающей в воздухе манеры Тальони, тальонизм и посейчас встречается иногда на нашей сцене, но все реже и реже, и возрождения не этого тальонизма надо желать и ждать. Такой тальонизм — дань прошлому; он может быть очарователен, но от него веет не только «пассеизмом», но и «пассивностью». Нет, «тальонизировать» и можно и должно по-другому. Тальони была улътрамодернистка; она ' не только шла в ногу с передовым искусством своего времени, она бросала вызов всем устарелым вкусам публики. Если бы не покоряющее обаяние и техническое мастерство, ее высокая культурность могла бы быть попросту неприятна большой публике нарушением всех уютных привычек. Но Тальони покорила и переделала на свой лад настроение зрительного зала. На этих путях следовать за Тальони неизбежно для всякой большой эпохи хореографии. Идти бескомпромиссным путем, продиктованным назревшими новыми взглядами на искусство танца, но так вооружиться безукоризненной техникой, так любовно и беспощадно воспитать артистизм его представителей, как это делал старик Тальони. Заставить публику разлюбить трюк, ее ненаглядные «тридцать два фуэте» и полюбить танец, переделать настроение зрительного зала смогут артисты настолько же культурные, насколько сурово натренированные, такие, какой была Мария Тальони.
Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 1562;
