Si batte nel mio cuore 4 страница
Еще большее значение обрели взаимоотношения России и Франции на рубеже XVIII–XIX вв., когда две армии столкнулись в Европе в борьбе за геополитическое господство. В суть этого спора вдаваться не будем, ибо это тема специального исследования. Суворов ведь заставил Европу считаться с Россией (единственный и самый эффективный способ вызвать у
Европы уважение к себе – бить ее на всех фронтах или торговать с нею, лучше то и другое). Стоило «непобедимому» Наполеону узреть мощь наших армий, как он тут же стал юлить.
Известно, что мысль о союзе России и Франции витала со времен Шетарди, который вел переговоры с царицей Елизаветой Петровной. С этой целью направили и графа Сегюра к Екатерине II. Бонапарту на первом этапе была очень нужна поддержка могущественной России. Будучи первым консулом, тот всячески старался найти ключик к сердцу русской монархии. Он даже просил об этом прусского короля, говоря в январе 1800 года: «Мы не требуем от прусского короля ни армии, ни союза; мы просим его оказать лишь одну услугу – примирить нас с Россией». Когда на престол в России взошел Павел I, многое изменилось. В России многое, если не все, зависит от ориентации «монарха». Если он смотрит на Англию, США – курс один. Если России повезет и у власти оказывается личность поумнее, знающая историю и традиционный антируссизм англосаксов – ситуация иная. Павел был более дальновидным политиком, нежели у нас привыкли о нем думать и говорить. Он заявил: «Что касается сближения с Францией, то я бы ничего лучшего не желал, как видеть ее прибегающей ко мне, в особенности как противовесу Англии». Стоило англосаксам распознать, куда дует ветер (антианглийский курс), они тут же повели тайную войну против царя. Посол Англии Уитворт дерзко и угрожающе заметил: «Император в полном смысле не в своем уме».[704]
Обе державы «созданы географически, чтобы быть тесно связанными между собой». Бонапарт считал, что Франция и Россия должны быть стратегическими партнерами. В свою очередь, и Павел проявлял знаки внимания и симпатии к французскому руководителю (в его кабинете появляется портрет Бонапарта, он резко требует от Людовика XVIII покинуть Ми-таву). Они строят совместные грандиозные планы: высадка в Ирландии, раздел Турции, военные действия в Средиземном море и покорение Индии (35-тысячный французский корпус должен был встретиться с русским в Астрахани, на пути в Индию). Хотя план сохранялся в тайне, кто-то из царского окружения наверняка донес. Англия всполошилась. И Павла I убрали свои заговорщики (Н. Панин). Все предатели в России обычно находятся в «ближнем окружении». Поговаривали, что в убийстве замешан посол Англии Уитворт. Так считал и Бонапарт: «Они промахнулись по мне 3 нивоза, но попали в меня в Петербурге». Союз с Францией не состоялся. Англия нанесла удар с обычным коварством, как тайный убийца.[705]
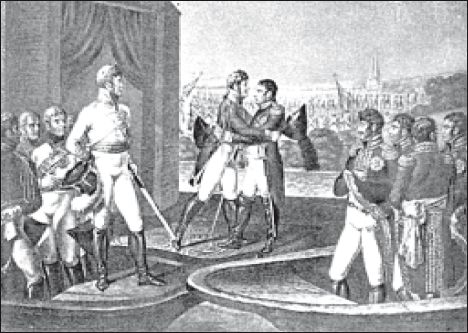
Свидание в Тильзите.
Интерес к Франции у русских не пропадал никогда. В 1790 г. писатель Н. М. Карамзин посетил столицу. Он так описывал Париж тех лет: «Принимаясь за перо с тем, чтобы представить вам Париж хотя не в совершенной картине, но по крайней мере в главных его чертах, должен ли я начать, как говорили древние, с яиц Леды и объявить с ученою важностию, что сей город назывался некогда Лютециею… Париж покажется вам великолепнейшим городом, когда вы въедете в него по Версальской дороге… Вошедши в сад (авт. – сад Тюльери), не знаете, чем любоваться: густотою ли древних аллей или приятностию высоких террас, которые на обеих сторонах простираются во всю длину сада, или красотою бассейнов, цветников, ваз, групп и статуй. Художник Ленотр, творец сего, конечно, искуснейшего сада в Европе, ознаменовал каждую его часть печатью ума и вкуса. Здесь гуляет уже не народ, так, как в полях Елисейских, а так называемые лучшие люди, кавалеры и дамы, с которых пудра и румяна сыплются на землю. Взойдите на большую террасу, посмотрите направо, налево, кругом: везде огромные здания, замки, храмы – красивые берега Сены, гранитные мосты, на которых толпятся тысячи людей, стучит множество карет – взгляните на все и скажите, каков Париж. Мало, если назовете его первым городом в свете, столицею великолепия и волшебства. Останьтесь же здесь, если не хотите переменить своего мнения; пошедши далее, увидите… тесные улицы, оскорбительное смешение богатства с нищетою; подле блестящей лавки ювелира – кучу гнилых яблок и сельдей; везде грязь и даже кровь, текущую ручьями из мясных рядов, – зажмете нос и закроете глаза. Картина пышного города затмится в ваших мыслях, и вам покажется, что из всех городов на свете через подземельные трубы сливается в Париж нечистота и гадость. Ступите еще шаг, и вдруг повеет на вас благоухание счастливой Аравии или по крайней мере цветущих лугов прованских: значит, что вы подошли к одной из тех лавок, в которых продаются духи и помада и которых здесь множество. Одним словом, что шаг, то новая атмосфера, то новые предметы роскоши или самой отвратительной нечистоты – так, что вы должны будете назвать Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным и самым вонючим городом».[706] В то время город еще не был таким, как описал его Бодлер: «Дворцы, ступени и аркады в нем вознеслись, как Вавилон».
Карамзин побывал во Франции в самые горячие дни начала революции. Вероятно, он стал свидетелем многих захватывающих событий. Тогда толпа в Париже устроила самосуд над генеральным контролером финансов Фулоном (конец сентября 1789 г.). Он устанавливал налоги и вызвал всеобщую ненависть масс своими словами о том, что голодающие могут жрать сено. Его отрубленную голову, окровавленный рот которой был набит сеном, носили по улицам Парижа. Это было дикое и страшное зрелище. Но разве не прав был Бабёф, обвинивший власти в том, что они превращают народ в зверей?! Он побывал и в Лионе, где видел сцены такого же рода. В целом, его отношение к революции было, скорее, негативным. Он увидел во французском народе «страшного деспота», который только и занят казнями и насилиями, крича «a la lanterne»! («на виселицу!»), хотя будущий историк не мог пропустить столь выдающегося события. Кутузов, посетивший в это время Париж, оценивая итоги заграничного путешествия Карамзина, писал: «Может быть, и в нем произошла французская революция?» Историк побывал и в театрах, и в салонах, и на улицах, и в Национальном собрании. Несмотря на то что он однажды сказал «боюсь крови и фраз» (по поводу испанской революции), его увлекли речи Робеспьера, которого он слышал многократно. Ю. М. Лотман в книге о Карамзине писал: «Карамзин наблюдал. То, что он видел, его, вероятно, ужасало, но и влекло. Можно думать, что в вихре политических мнений, в потоке слов магнитной стрелкой для него была личная честность говорящих. С этим связана неожиданная, но засвидетельствованная достоверными и близко знавшими Карамзина мемуаристами глубокая человеческая привязанность его к Робеспьеру.
Николай Тургенев вспоминал: «Робеспьер внушал ему благоговение. Друзья Карамзина (видимо, И. И. Дмитриев. – Ю. Ё.) рассказывали, что, получив известие о смерти грозного трибуна, он пролил слезы: под старость он продолжал говорить о нем с почтением, удивляясь его бескорыстию, серьезности и твердости его характера и даже его скромному домашнему обиходу, составлявшему, по словам Карамзина, контраст с укладом жизни людей той эпохи». Мнение это тем более должно было удивить Николая Тургенева, что сам он к Робеспьеру относился весьма отрицательно. Однако этому не следует удивляться: декабрист Тургенев, когда думал о Робеспьере, видел перед собой исторического деятеля, известного ему по страницам книг и брошюр. Он оценивал политическую программу и историческую роль вождя якобинцев. Карамзин видел перед собой человека, его жесты и позу». Позже он, правда, несколько разочаровался в утопии, сказав стихами: «И вижу ясно, что с Платоном республик нам не учредить»[707]
Даже наше признание гения Франции и ее культурных заслуг не позволяет закрывать глаза на общее (убогое) развитие европейского люда. Вот что писал в своих заметках русский писатель Фонвизин, путешествовавший по Европе в XVIII в.: «Могу сказать, что кроме Руссо, который в своей комнате зарылся как медведь в берлоге, видел я всех здешних лучших авторов. Я в них столько же обманулся, как и во всей Франции. Все они, выключая малое число, не то, что заслужили почтения, но достойны презрения. Высокомерие, зависть и коварство составляют их главный характер». В другом месте читаем: «Человеческое воображение постигнуть не может, как при таком множестве способов к просветлению, здешняя земля полнехонька невеждами. Со мною вседневно случаются такие сцены, что мы катаемся со смеху. Можно сказать, что в России дворяне по провинциям несказанно лучше здешних, кроме того, что здешние пустомели имеют наружность лучше».
В письме Фонвизина П. И. Панину делается весьма любопытный вывод, не лишенный актуальности и во времена нынешние: «Рассматривая состояние французской нации, научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею в многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве».[708] Эволюция ума русского драматурга, начавшего свой идейный путь с поклонения Западу и атеизма, а пришедшего в итоге к вере и национализму, могла бы кое-что подсказать и современникам.
Повышенный интерес к России проявляли и французы. Особенно это стало заметно в XVIII–XIX вв., когда они поселилисьв двух русских столицах (в связи с революцией и эмиграцией). На территории Российской империи в 1793 г. обитало 2423 француза. Три четверти проживали в столицах и ближайших к ним городах. Если и заносил ветер судьбы в провинцию, то в качестве учителей. В основном это были все же представители трудовых профессий (учителя, военные, ремесленники, повара). Хотя около тысячи из них могут быть отнесены к лагерю «диссидентов» (политических эмигрантов). Среди известных эмигрантов: брат якобинца Ж. – П. Марата – Будри, философ и писатель Жозеф де Местр, который прожил в России около 14 лет, и, наконец, герцог Ришелье (известный на всю Одессу «дюк»). «Дюк» Ришелье оставил заметный след на юге России. По поручению Екатерины он создал план военных поселений в Новороссии. Его назначили губернатором огромного южного края, включавшего три губернии. Вот как писал о нем историк Д. А. Ростиславлев: «В своей практической деятельности герцог пытался воплотить свой политический идеал. Он управлял Но-вороссией, как средневековый сюзерен, ревниво относясь к вмешательству в дела края столичной бюрократии. Ришелье лично объезжал край, возглавлял военные экспедиции против непокорных горцев, вникал во все вопросы управления, выделения земельных участков. Для своих подданных он был справедливым правителем, судьей, распорядителем земельного фонда. Ришелье опирался в управлении на людей, которым он лично доверял. Среди них абсолютно преобладали дворяне, в том числе французские эмигранты».[709]
При Екатерине II в столицах появилось множество модисток и лавок модной одежды. Когда в Москве дамы отправлялись на Кузнецкий мост за покупками, они говорили: «Ехать во французские лавки». В повести Сенковского даже есть такое выражение: «все эти Европейцы Кузнецкого Моста». Вспомним и слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума»:
А все Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы:
Губители карманов и сердец!
Когда избавит нас творец
От шляпок их! чепцов! и шпилек! и булавок!
И книжных и бисквитных лавок!
Влияние французской культуры было более широким. Важным «агитатором» и «пропагандистом» выступал живой французский язык. Все образованное общество в России худо ли, бедно ли, но владело французским языком. Хотя, как утверждал маркиз де Кюстин, знали они его ровно настолько, «чтобы читать, да и то с трудом». Тем не менее, это приличный вполне уровень. Образованные люди знакомились с главными произведениями, созданными во Франции. Император Николай I каждый день прочитывал от первой до последней строчки единственную французскую газету «Журналь де Деба». Хотя свет общался, скорее, на некой смеси «французского с нижегородским», были в русском обществе и такие высокообразованные личности, как А. С. Хомяков.
Французский язык Хомякова неизменно вызывал восхищение у тех, кто с ним сталкивался. Г. Морель вспоминал: «Французский читатель испытывает впечатление, исполненное очарования. Прежде всего, это восхитительная неожиданность: спрашиваешь себя, откуда иностранец, который едва лишь проездом повидал Францию, мог столь совершенно овладеть ее языком? Ибо французский язык Хомякова не просто правилен и даже изящен, в нем не только различаются наитончайшие оттенки смысла слов, но более того, предложения – всегда остающиеся легкими, несмотря на свою длину, – развиваются с гармонией и плодовитостью, напоминающей лучших прозаиков великого столетия.
И однако, сколь бы ни был французским язык Хомякова, чувствуется, что ни в какую эпоху так не писали по-французски во Франции. В XVII в. не было этого лексикона, а в XIX уже не было этого синтаксиса. Хомяков много читал наших лучших авторов, и именно им он обязан архаическим совершенством своего языка»[710]
Порой переходил на французский язык и Пушкин. И. Тургенева называли «самым французским из русских писателей». Философ Вл. Соловьев сочинил на французском главный труд – «Россия и Вселенская церковь», а ученый И. Мечников, переехавший жить во Францию для работы в Институте Пастера, вообще писал работы на французском. Директор Института Пастера Э. Ру говорил ему: «Оставаясь русским по национальности, вы сделались французом». Хотя эта увлеченность французской культурой верхов порой переходила все разумные границы. Как скажет российский историк В. О. Ключевский: «Отцы были русскими, которым страстно хотелось стать французами; сыновья были по воспитанию французы, которым страстно хотелось стать русскими». Сегодня же из нас, русских, хотят сделать англосаксов или, на худой конец, евреев.
Впрочем, следовало учесть, что французский язык был в то время языком международного общения, признаком принадлежности к высокой культуре. В этом смысле показательно и характерно письмо юного А. Горчакова, будущего канцлера, к дядюшке, где тот пишет: «Приятно мне очень видеть из Вашего письма, любезный дядюшка, что Вы хотите из французелюба (за которого Вы меня почитаете) сделать русского, но позвольте заметить, что тут вы немного ошибаетесь, люблю французский язык, потому что он необходим, что без него нигде показаться нельзя и что, словом, он сделался вернейшим признаком хорошего воспитания. Но я к нему не пристрастен до той степени, чтобы пренебречь отечественной словесностью» (из Царскосельского лицея).[711] Подобные слова мог сказать в ту пору едва ли не каждый член высшего общества. Не случайна и полная победа карамзинского стиля. Ведь Карамзин многое перенял у французов. П. Милюков довольно тонко подметил в «Очерках по истории русской культуры», что «славянщина» была окончательно вытеснена из литературного языка, чтобы уступить место «приятности слога, называемой французами elegance».[712]
Впрочем, интерес к французскому языку был заметен и в провинции (среди дворян). Скажем, ярославский помещик Н. И. Тишинин (переводчик, литератор) принимает решение обучать свою дочь французскому и заключает договор с учительницей из Франции, некой Ж. де Крузаз. Текст гласит: «Я обязуюсь вступить во услужение к господину Тишинину французскою мамзелью на следующих кондициях; а именно обещав дочери его, благородной девице, дать пристойное воспитание в рассуждении как обхождения, учтивости и прочих похвальных качеств, так и особливо добосердечия и достойных природы своей нравов; словом, она от меня все наставления получить имеет, которые благородной девице знать должно, причем обучать ее буду французскому языку, истории и географии, и для того родитель ее меня не оставит, снабдит потребными книгами. Еще же я обязуюсь обучать ее читать, писать по орфографии, сколько я сама умею, сверх того и служительнице нашей не оставлю давать наставление во французском языке. Я надеюсь, что со мною поступлено всегда будет с такою учтивостию, которую учительнице оказать должно; …в рассуждении платы я довольна тем, что господин Тишинин мне обещать изволил… двести рублев в год» (1767).[713]
Значительная часть военных, побывавших в Париже с великой русской армией, сокрушившей Наполеона, конечно, не могла остаться равнодушной не только к прелестям француженок, но и к социально-политическим и культурным завоеваниям французского народа. Это выражалось в письмах домой, в понимании высокого уровня жизни европейцев. Впоследствии все признавали значение такого вот психологического воздействия. Спустя многие годы поэт А. Фет в переписке с великим князем Константином Константиновичем (известным в литературе как поэт К. Р.) отмечал: «Принесшие из Парижа дух французских писателей XVIII века гвардейцы задумали перенести революцию и на русскую почву; но декабристы встретили отпор непреклонного хранителя самодержавия Николая Павловича. Несмотря на полнейшую неудачу, республиканский дух преемственно сохранился в высших умственных слоях, преимущественно мира науки. Гвардейцы заразились в Париже гражданским свободомыслием, а адепты германской науки – в философских школах».[714]
На французском писались даже конституции. В 1820 г. в канцелярии Н. Н. Новосильцева в Варшаве, по поручению императора Александра, составлена конституция по-французски, не по-русски (похоже, у нас все конституции пишутся «западниками» то на французский, то на американский манер). Проект российской тогдашней конституционной хартии декларировал политические свободы и равенство всех граждан перед законом. Увы, цели этого проекта так и остались на бумаге.[715] В иных случаях, впрочем, к месту и слова Г. Державина: «Французить нам престать пора!» Почему бы нам не создать основной Закон страны по русским меркам! Вон и на триумфальной арке в Царском селе, воздвигнутой в честь побед русского воинства над Наполеоном, надпись была сделана на французском. Характерно и то, что когда в 1829 г. в России отмечалась 25-летняя годовщина взятия Парижа и решили воздвигнуть памятник победы над галлами (а с ними – двунадесять языков), исполнение проекта опять же было поручено французу А. Монферрану (1786–1858). Как известно, Монферран получил образование в Королевской школе архитектуры, где учился у главных архитекторов Наполеона (Ш. Персье, П. Фонтэна). С 1816 г. он жил и работал в России, будучи автором проекта Исаакиевского собора. А затем вот родилась и величественная Александровская колонна в Петербурге, которая была выше известных дорических колонн Антонина, Траяна и Вандомской колонны. Кроме того, в нее был заложен и совершенно иной содержательный смысл. Верх колонны украшала не фигура цезаря, а образ Веры в виде ангела с крестом в руках, попирающего ядовитую змею. Колонна символизирует победу славного русского воинства над европейскими варварами (внизу помещены наряду с римскими доспехами и русские – скульптурные изображения шлема Александра Невского, лат царя Алексея Михайловича, щита князя Олега, некогда прибитого на вратах Царьграда).
Подобно тому как французский язык некогда вошел в обиход значительной части российского дворянства, по популярности с ним соперничала и прекрасная французская кухня. Начиная с петровско-екатерининских времен в Россию хлынул поток парикмахеров и кухмистеров из Европы. Естественно, в их числе были и французы (знаменитые французские повара Карем, отец и сын Жебоны, Пети, Гильта и другие). Надо сказать, что они нисколько не испортили русской кулинарной школы. Напротив, даже сделали стол наших любезных соотечественников разнообразнее, тоньше, изысканнее. Эти вкусы укоренились в обществе, несмотря на краткий период «застольной блокады», когда русские объявили супостатам в 1812 г. бойкот (бойкот не только оккупантам, но и французским кушаньям и винам). Многие тогда из патриотических побуждений перешли на все русское (кулебяки, каши, кислые щи).[716]
Понятно, что влияние французских нравов и вкусов выходило за границы столов, «книжных и бисквитных лавок». Характерно, что даже «солнце русской поэзии» А. С. Пушкин, говоря как-то о значении «Горе от ума» тогда еще не признанного Грибоедова, отразил то глубокое проникновение французской истории и культуры в умы и языки российского образованного общества. Он сказал: «Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерской ротой, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в «Московском Телеграфе».[717] Мода не ограничивалась лишь лавками. В XVIII в. писатель П. – О. Бомарше написал комедию «Севильский цирюльник» – и стал великим. В России в конце XX в. создается помпезный «Сибирский цирюльник». В первом случае слуга-цирюльник становится народным героем, во втором герой-император больше похож на слугу, «слугу двух господ».
Гражданское общество в России всегда симпатизировало французской культуре. Побывав в России, это обстоятельство отметил и писатель А. Дюма (1858). В частности, он увидел, что многие образованные русские знают и любят Виктора Гюго, Ламартина, Бальзака, Мюссе, Жорж Санд и зачитываются его романами (даже в отсталой тогда еще Финляндии). Он решительно был несогласен с де Кюстином, утверждавшим, что сам воздух Россиии чужд искусству («воздух этой страны враждебен искусству»). Кстати, большая заслуга А. Дюма в том, что, вернувшись во Францию, он познакомил французского читателя с поэтами и прозаиками России. Не зная русского языка, он при помощи подстрочника сумел создать первые поэтические переводы из Пушкина, Рылеева, Лермонтова, Полежаева, Некрасова, перевел повести Бестужева-Марлинского и Лажечникова, способствуя сближению культур.[718]

Этьен Морис Фальконе. Памятник Петру I в Ленинграде. 1766–1782 г.г.
После завершения тяжелейшей войны против Наполеона возрос интерес и к французским мемуарам. Чем он вызван? Конечно, не только желанием узнать мнение вчерашнего противника о России, но открывшимися перед русскими большими возможностями, известной тягой к европейскому миру и культуре. Тысячи людей, не покидавших ранее отечества, теперь, так сказать, полЕвропы прошагали (в первый раз). Одним из примеров культурного влияния, последовавшего после личного знакомства с Европою, стал и пробудившийся в России интерес к мемуаристике. В начале XIX в. во Франции появились мемуарные серии книг (по 60—100 томов). Из Европы в Россию хлынул настоящий книжный потоп. «Московский Телеграф» отмечал: «Особенно Франция представляет в своем отношении богатый запас материалов и неимоверную деятельность книгопродавцов. Неудивительно! Книги французские читаются везде». В. Белинский рассматривал исторические записки (memoires) в качестве прямой «собственности французов», называя оные – «чадо их народности». Многие искренне желали, чтобы и в России, наконец, появилась такого рода мемуарная литература.
Мемуары с точки зрения социокультурного и политического влияния выполняют важную общественную роль. Мемуары – память народа, запечатленная в книгах. Раньше «право на память» имели лишь царственные особы и вельможи. Порой в их ряды попадали различные выдающиеся личности (писатели, художники, ученые). После же эпохи революций многие обрели право не только владеть собственностью, избирать и быть избранными во власть, но и писать мемуары. Так, глас обычного, простого человека стал доступен векам и потомкам. Трудно переоценить всю значимость этого события. Отныне мы – «свидетелиистории», глас которой уже не замолчать. Разумеется, иные мемуары не гарантируют от искажений действительности. Но они более красноречивы, нежели «сухие документы» (которые так же могут лгать). В мемуарах обманы и пристрастия заметнее. Народ, любящий читать мемуары, имеет больше шансов обрести свободу. Ведь в них можно поведать истину, заклеймить тиранов, предателей и воров, отомстить врагам отчизны. Любите мемуары. В них сокрыто тайное оружие, которое может вдохнуть веру и энергию в людей достойных, преданных своему отечеству (или же наказать властных ничтожеств). И тогда огненные строки, словно письмена Валтасара, появятся на чертогах презренных правителей. Любите мемуары, друзья.
Последнее обстоятельство заставляло верховную власть в России относиться с крайней подозрительностью, чуть ли не с тайным страхом ко всякого рода запискам и мемуарам. Иные вельможи (цари, генсеки, премьеры, президенты, банкиры, генералы и т. д.) так наследили в истории России, что норовят подальше спрятаться от глаз потомков. Академик Л. Н. Майков удивлялся, приводя в пример Англию, где существовал обычай после смерти известного лица печатать все материалы, касающиеся его биографии. У нас в России тогда наблюдалась совершенно противоположная картина. Умрет знаменитый человек – и через 20–30 лет материалы о нем приходится разыскивать «как о каком-нибудь деятеле древних времен». Хотя, с другой стороны, надо было бы спросить: а может, он жил так, что народ уже через 20 лет вспоминать не хочет об этом властителе-разбойнике! Вот и А. Я. Булгаков, когда писал брату, санкт-петербургскому почт-директору К. Я. Булгакову, сожалел: «У нас не так, как во Франции; там всякий министр пишет все, что видит, знает и делает».[719] Чудной человек этот А. Я. Булгаков. Он, кажется, не вполне отдавал себе отчет, что живет в России, а не в Англии или Франции… Да если у нас каждый царь, президент, премьер, министр, генерал, или крупный чиновник начнет писать всё, что знает, ему же головы не сносить.
Хотя Александр III при открытии французской выставки в Москве (1891) обнажил голову, стоя выслушав гимн Французской республики «Марсельезу». Используя нашу музыку, Э. Ленобль и М. Роже пишут франко-русский гимн: «Оба народа священные узы будущим свяжет одним». Это было время русско-французского сближения и создания союза. В 1897 г. Розанов набросал отрывок «Франко-русских впечатлений», в котором, наблюдая французов среди русской толпы, отметил «превосходство русского в сторону глубины» и превосходство француза «в сторону естественной, природной грации». Гораздо более важна готовность французов к активному действию, к воплощению замысла, к мускульному поступку. У нас же Иван готов сотню-другую лет просидеть на куче навоза, все возмущаясь по поводу того, что никто не взял, да не убрал эту «кучу дерьма» (за него и вместо него, разумеется). Розанов пишет: «О, тупица тысячу лет просидел бы в навозе и твердил: «je suis et j`y reste»; его обстригли бы, его хоронили бы, и он, уже только кончиком носа выглядывая из-под земли, твердил бы: «je suis et j`y reste». Но эта фригийская шапочка – это эмблема исторической резвости, вечного внимания к минуте; внимания и к окружающему; и под нею, как под чеченскою папахой или старомосковской пудовой шапкой, нельзя прийти в состояние, описанное поэтом в стихе: «Спит, покой ценя». И вот отчего эту вечно одушевленную резвушку так любили всегда европейские народы; таким связующим, объединяющим и, следовательно, высокочеловечным звеном она вошла в семью их».[720] Этой вот «резвости», политической воли и гражданского мужества очень не хватает нам, русским (русским особенно).
Простой народ относился ко всяким «французским штучкам» без особого энтузиазма. Он видел не радужные образы европейца, а колонны мародеров и захватчиков, вторгшихся в Россию под знаменами «просвещенной Европы». Труженик не разделял любования интеллигенции заграницей и неумеренное восхваление оной. В народной среде получили распространение шутливые песенки, вроде той, что приводим ниже («Москва и Париж»):
Не дошедши до Парижа,
Стал хвалиться Парижом.
«Не хвались-ка, вор-француз,
Своим славным Парижом!
Как у нас ли во России
Есть получше Парижа:
Есть получше, пославнее,
Распрекрасна жизнь Москва.
Распрекрасна жизнь Москва,
Москва чисто убрана…».[721]
Частично поэтому у некоторых французов и европейцев складывалось о России не всегда верное (и не очень лестное) представление. Достаточно заглянуть в книгу Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». Маркиз, воспользовавшись кратким путешествием по России, сделал далеко идущие и в основе своей ложные выводы. Он уезжал из Парижа с надеждой, что лишь тесный союз Франции и России способен внести мир в европейские дела. Но, увидав вблизи русский народ, узнав «истинный дух» его правительства, он почувствовал, что наш народ отделен «от прочего цивилизованного мира мощным политическим интересом, опирающимся на религиозный фанатизм». Кюстин уверял французов, что они должны искать себе поддержку у других наций, с которыми их связывают общие нужды и интересы. Такими великими нациями он счел французов и немцев, за которыми последует остальная Европа. «Судьбы нашей цивилизации, открытой, разумной и идущей вперед, будут решаться в сердце Европы». О том, что представляет собой эта «разумная Европа», мы видели и видим. Она развязала две мировые войны и недалека от развязывания третьей.[722]
Каковы же его впечатления от самой России, её целей и её будущего? Перед нами предстает мрачное, тупое и безнадежное общество. Создается впечатление, что Кюстин специально поставил целью представить Россию «страной запуганных идиотов». Дадим ряд выдержек. Итак, в России человеческое достоинство, конечно же, совершенно неведомо. Русские более проворны, чем мускулисты, более свирепы, чем энергичны, и более хитры, чем предприимчивы. Самое для них трудное и наименее естественное – это чем-то всерьез занять свой разум, на чем-то сосредоточить воображение. Русские не могут найти себе полезного применения, ибо – вечные дети. Ум их от природы ленив и поверхностен. Они напрочь лишены и научного гения. У русских никогда не проявлялась способность к творчеству. Ими движет только страх. Поэтому они готовы идти на всё. Кюстин видит колосса вблизи – и ему трудно представить, что сие есть творение божественного Промысла. Кюстин убежден в том, что главное предназначение России «покарать дурную европейскую цивилизацию посредством нового нашествия». Россия, считает он, «недоцивилизация». Удел русского общества (как думали тогда и думают сейчас многие «знатоки России» в Европе и западном мире) – «распространить свои завоевания на Восток, а затем распасться самому».[723] Подобная глупость живуча. Ох уж этот «бесстыдный ум француза» (К. Бальмонт).
Дата добавления: 2016-03-15; просмотров: 622;
